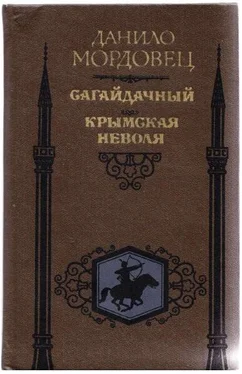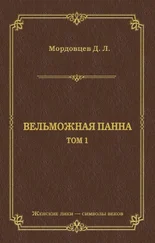Вот о чем плакала несчастная мать.
Торжествующих казаков ожидало, однако, горе: к вечеру их общая любимица и забавочка, их золотое яблочко, маленькая татарочка «разгасилась». Она все хваталась за головку, которая была как в огне, тихонько плакала, все тянулась пить и металась на куче кожухов, из которых ей сделали постельку под чердаком. Казаки совсем растерялись, не зная, как возиться с больным ребенком. Они и придумать не могли, с чего воно расхворалось. Отроду не знавшие, что такое значит простуда, казаки просто не уберегли, простудили ребенка и теперь не знали, что и подумать. Все были того мнения, что дытыну зглажено, что кем-нибудь ей «наврочено» и всего скорее сглазил ее чей-либо недобрый глаз на той галере, где много москалей-невольников; наверное, «москали» сглазили. А может, сглазила и та молодица, подончиха, что плакала над ней. Просто беда да и только!
Кинулись казаки лечить девочку, и каждый предлагал свое средство: Хома слышал от старых людей, что для того, чтобы дытыну не испортили, не «наврочили», надо вколоть иголку в шапку, и он это сделал: засадил в свою шапку огромную иглу.
— Эге, дурный! — замечали ему на это.
— Надо б было тогда втыкать иголку в шапку, как дитя было еще здорово, а теперь оно не поможет.
Долго возились с татарочкой, но, наконец, она уснула, убаюканная тихим волнением моря, уткнувшись заплаканным личиком в кожух, на который ее положили.
Казаки окончательно присмирели. Олексий Попович велел даже снять всем чеботы, чтоб, ходя по чайке, не стучали чеботищами, а наконец, и уложил всех спать, хоть многие порядком отоспались за день, а иные даже распухли от сна.
— Сон на сон не беда, — утешал их Попович.
— Вот кий на кий так беда, — пояснял Карпо Колокузни, развалившись на шкуре убитого им тура, которую он предлагал было под татарочку, но Олексий Попович не принял:
— Еще ребенок испугается либо самого тура во сне увидит.
Сам Олексий Попович, успокоившись насчет сна девочки, лег, съежившись, около нее, чтоб всегда быть наготове, и скоро захрапел на всю чайку, потому что не спал весь день.
Покойно спала и юная пленница. В течение ночи Небаба, старую голову которого не брал сон, несколько раз тихо подкрадывался к тому месту, где лежала татарочка, прикрытая казацким жупаном до самой головки, и осторожно прислушивался к ровному дыханию спящего ребенка.
Утреннее солнце, вынырнув из моря половиною пурпурового диска, осветило необычайно живую, поэтическую картину. Казацкая флотилия быстро неслась к полуденной стороне на всех веслах. Весла в сухих уключинах кричали тысячами голосов, словно бы это кричало по заре несметное лебединое стадо. Другие казаки, не сидевшие за веслами, те, которых «черга» еще не наступила на начинающийся день и которые, следовательно, могли спать дольше, теперь просыпались и совершали свой нехитрый туалет и все то, что казаку бог велел делать; те, почерпнув из моря ведром или водоливным ковшом воду, мыли свои загорелые казацкие лица, богатырские усы и чубы, фыркали и гоготали, как стадо жеребцов на водопое, приправляя это дело казацкими жартами — остротами — над добродушным Хомою и всякими словесными и телесными выкрутасами; другой, отфыркавшись от «гаспидської» соленой воды и утерев лицо рукавом, полою, хусткою, а то и расшитым рушником, подарком матери, сестры или дивчины, а то и вовсе ничем не утершись, с серьезным лицом стоял, оборотясь к востоку, к солнцу, и бревноподобными пальцами тыкал себя в лоб, в пузо и в богатырские плечи, бормоча иногда то, что только ему было ведомо, да и то едва ли: «Господи, мати божа, свята покрова з пятницею, та святий Юрко з конем, та Іван-головосікa, та Маковія з шуликами, з маком i eci святі, помилуйте козака Ониська! Амінь». Тот, сняв с себя сорочку и подставив свои голые плечи и спину под ласкающие лучи утреннего солнца, усердно зашивал гигантскою иголкою дорожные прорехи в своем белье, более похожем на половик в дегтярном складе, чем на якобы «білу сорочку». А этот, совсем без сорочки и без штанов, став на краю чайки, у свободного борта, неистово тряс над водою свое казацкое одеяние, чтоб «чортові блохи» в море попадали и не кусали бы больше казацкого тела.
Татарочка проснулась здоровенькая, без жару, хотя немножко бледненькая; сначала, видимо, не поняла, где она и что с ней, — заплакала; но, увидав знакомые уже лица казаков, успокоилась. Олексий Попович, зачерпнув из моря воды в ковшик, стал было осторожно своими мозолистыми ладонями мыть нежное личико девочки, но она заплакала, и Небаба, давно помолившийся богу и сосавший свою люльку, которая теперь не гасла, вступился за татарочку.
Читать дальше