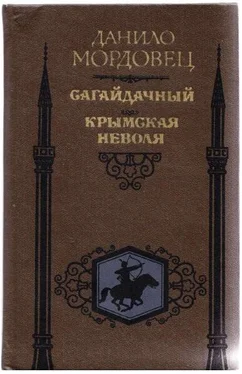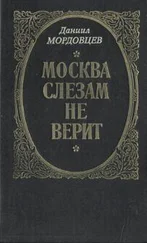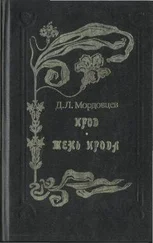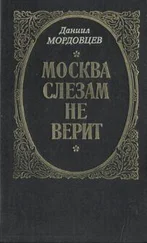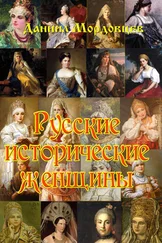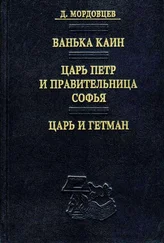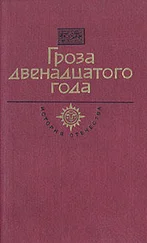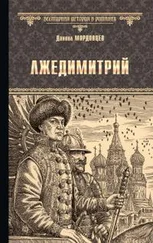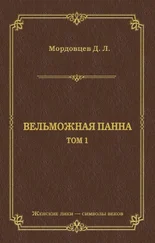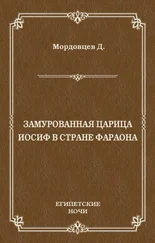Сагайдачный понял, что это не бусурманка. Ему стало жаль ее — он не знал, чему приписать это горе, выливающееся такими горькими слезами.
— Молодица, ты чего плачешь? — тихо спросил он.
Плачущая женщина не отвечала. Она плакала еще горше. Маленькая татарочка, увидав ее, стремительно бросилась к ней и громко закричала: бедный ребенок вспомнил мать, которую начал было уже забывать, — костюм татарки напомнил девочке то, чего она лишилась, и она, обливаясь слезами, уткнулась головкой в колени неизвестной женщины. Это была единственная женщина, которую увидал ребенок после того, как потерял мать среди пламени и стонов.
Неизвестная женщина быстро обернулась, сверкнув на всех своими ясными, прекрасными, но заплаканными глазами, и, припав лицом к головке девочки, жалостно, но безмолвно рыдала.
Слезы сверкали на глазах сурового Небабы. У Олексия Поповича задрожали губы. Мазепа как-то растерянно теребил концы своего саетового [Саета — разновидность тонкого английского сукна] пояса, моргая глазами и нерешительно взглядывая на Сагайдачного, который показывал вид, что смахивает со щеки муху...
— Что оно такое? Не наша? — тихо указал Сагайдачный на плачущую женщину.
— Да она, ваша милость, сказать бы, воруха, — заговорил оборвыш, глядя в глаза Сагайдачному и заискивающе улыбаясь.
— Воруха? — удивился гетман.
— Точно, боярин, воруха — воровского казака, значит, жонка-полонянка: в полону, сказать бы, была. А вон тамотка муж ейный будет, вон песню играет: «Как по морю...»
И оборвыш указал на поющего парня.
— Муж этой молодицы? — указал Сагайдачный на молодую женщину, которая уже перестала плакать и утешала всхлипывающую татарочку.
— Ейный, ваша милость, воровской казак будет — полоняник же... А вот как он, казак-то, увидал здеся-тка эту самую бабу и спознал в ей свою жену законную, да как узнал, что она бусурманена, вот он и не признает ее: поганая, говорит, бусурманка... А мы сами, ваша милость, будем орловски, из Орла-града — орлянин я, ваша милость, — и в прошлых годех, в спожинки, татаровя полонили нас... А как таперево, ваша милость, вы нас, значит, из полону агарянского ослобонили, и мы ваши вечные богомольцы будем — молить, значит, вечно за вашу милость бога будем и с ребятками и животов наших не пожалеем... А ежели чего свечку поставить за здравие вашей милости, и мы тово не пожалеем, — богомольцы мы ваши. Коли ежели и животишки наши испустошены, и скотинкою, може, без хозяина подбились — ино бог нам пошлет свою милость, а мы ваши богомольцы по гроб живота.
Тут только словоохотливый орлянин спохватился: начал за здравие, а свел на упокой — совсем заболтался. Он разом оборвал, тряхнул волосами, засеменил на месте и испуганно поглядел на Небабу, который казался ему очень страшным.
Сагайдачный между тем пошел дальше, а назойливый орлянин не отставал от него.
— Зовут ее, ваша милость, Офимьицей, — скороговоркой досказывал он недосказанное, — казачья Онисимкина жена Бурыкина. А взяли ее нагайски татаровя на Дону, в подъезде, и с Дону свели в Азов-град, а из Азова-града продали в эту самую Кафу; и в Кафе она, Офимьица, бусурманена, и по середам, и по пятницам, и в великие посты мясо и всякую скверну и нечисть бусурманскую едала; и взял ее, Офимьицу, за себя татарин-чауш [Чауш — правительственное лицо в Османской империи, уполномоченный султана] во вместо жены, без венца, и жила она, Офимьица, с ним без молитвы, и прижила сыночка ребенка, и по-бусурмански маливалась, и веру бусурманску держала, а веру русскую проклинала с неволи и каном мазана с неволи ж; и муж ейный, татарин, велел-де ей палец подымать, и она-де, Офимьица, палец подымала с неволи ж.
Но Сагайдачный уже не слушал болтуна, который, впрочем не досказал самого главного. На душе плакавшей казачки было величайшее горе, какое в состоянии понимать только матери. Она, действительно, была несколько лет тому назад полонена на Дону вместе с молодым мужем, с которым не прожила и месяца в замужестве. Ее продали в Кафу, а его в Синоп. Сколько она ни плакала, сколько ни молилась, а в конце концов должна была подчиниться воле своего господина-татарина: она стала его женой. Года два тому назад у нее родился сынок — злой татарчонок, как поется в песне, но для нее он был не злой татарчонок, а родной сынок Халилюшка, которого она обожала в своей горькой неволе и как бы отождествляла в своем сердце с мил-сердечным другом, с Онисимком, пропавшим для нее навеки. И вдруг не далее как вчера утром она, сидя у окошка, которое выходило в море, на гавань, услыхала знакомое, давно не слыханное пение, родные голоса: «Разовьем мы березу, разовьем-ка кудряву». Сердце оборвалось у нее. Она глянула в окошко и увидала, как невольники тянули по берегу лямкой какую-то тяжелую посудину и пели, скорее стонали, «Дубинушку»... Слезы брызнули у нее из глаз, и когда она их отерла, то среди оборванных полуголых и худых невольников она увидела — кого же? Своего мила друга Онисимушку!.. А тут вдруг ночью нагрянули казаки, вспыхнул город — крики, стоны, резня... Казаки напали на их дом. Она с Халилькой на руках бросилась им навстречу, вопя: «Родимые, не губите! Кормильцы, не стеряйте робеночка!..» Ее, конечно, не тронули, а вместе с другими освобожденными невольниками повели на берег, к галерам и чайкам. Там она увидала своего первого мужа — Онисима, бросилась к нему, забыв даже, что у нее на руках не его ребенок. Онисим узнал ее, затрепетал весь и, выхватив из ее рук малютку, с криком — «а, злой татарчонок»! — размозжил его о береговые камни...
Читать дальше