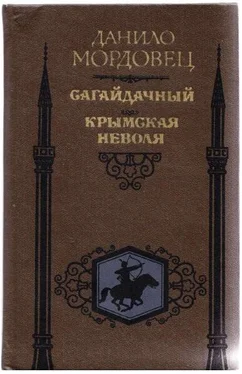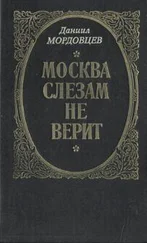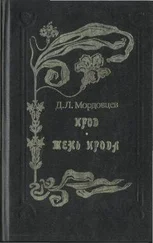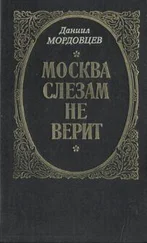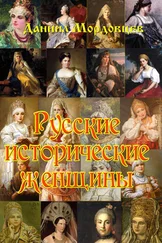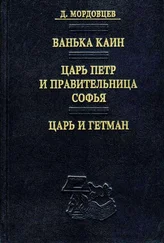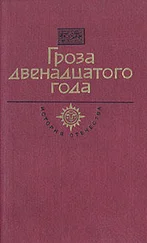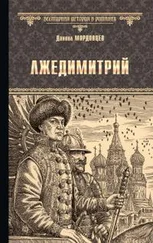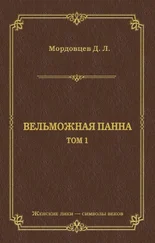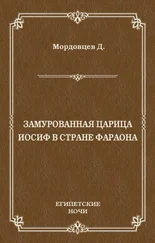В большой монографии «Гайдамаччина» (1870) Д. Мордовцев настойчиво подчеркивает обусловленность «народной смуты» конкретными условиями, «экономическими и общественными неправдами», видит в народной войне под руководством Пугачева и восстании 1768 года на Правобережной Украине «аналогические движения»: «Движение народа в Поволжье и в Поднепровье вызывались одними и теми же... условиями жизни». «И там, и здесь народ, поставленный в тяжкие условия зависимости, заявил о своих страданиях кровавым протестом против тех, от кого он зависел и кого считал виновником своих страданий». Вопреки стремлениям представителей консервативно-охранительного лагеря «объяснить» характер восстания «зверской кровожадностью... черни», в отличие от тех украинских историков, которые не желали видеть социального расслоения и остроты классовых противоречий в жизни Украины XVIII ст., Д. Мордовцев утверждает, что народное восстание было закономерным ответом трудящихся масс на закабаление и рост крепостнического гнета, когда «самое свободное государство почти незаметно преобразовывалось в крепостническое», когда народ испытывал двойной гнет, «не все давил лях, но и свой собственный брат, возвысившийся и разжившийся на счет другого, меньшего брата».
Следует, однако, сказать и о том, что в работе отрицательно сказалась ограниченность источниковедческой базы, некритическое использование ряда источников, сугубо неверным было утверждение о якобы «большей гуманности» польских помещиков по сравнению с единоверными «панами-братьями». В этом отношении концептуально цельным, исполненным антикрепостнического звучания является большое исследование «Накануне воли». Д. Мордовцев подчеркивал документальную точность книги, усиливающую ее общественное звучание, обличительную силу: «Я собрал богатейшие материалы, особенно по злоупотреблениям помещичьей властью, и составил обширное исследование, все построенное на подлинных бумагах архивов...» (из письма С. Н. Шубинскому, редактору журнала «Древняя и Новая Россия», 1876).
Начало публикации очерков в журнале «Дело» (1872) было цензурой «прекращено», автор, признанный «неблагонамеренным», был отправлен в отставку. Через много лет, дополнив, доработав книгу, Д. Мордовцев издает «Накануне воли. Архивные силуэты» (в конце 1889 г.). Однако и сейчас звучание приведенных там материалов о крепостническом произволе, бесчеловечных истязаниях («засечение крестьян помещиками является не единичными и не исключительными примерами разнузданного самовластья, а представляется явлением рядовым, обыкновенным») было столь же сильным. «До малейших подробностей, прибегая к самым мрачным краскам, изображает он случаи притеснений, которым подвергались крестьяне, с явной целью вызвать враждебное чувство к дворянскому сословию», — так было сформулировано обвинение министра внутренних дел в представлении Комитету министров. Особым постановлением от 5 июня 1890 г. книга была запрещена, тираж ее в количестве 1244 экземпляра сожжен.
А. Н. Пыпин с полным основанием писал в своих воспоминаниях («Мои заметки», 1905) о том, что «Накануне воли» Д. Мордовцева — «это был исторический материал величайшего интереса, материал в своем роде единственный... Сборник чисто документальный, иногда даже сухой, но по существу дела это одна из самых страшных книг, какие являлись в нашей литературе» [Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. — М., 1982. — С. 108] . Лучшие социологические и исторические работы Д. Мордовцева 60 — 70х годов пользовались большой популярностью, шли в русле прогрессивной, передовой общероссийской публицистики и науки. Революционные народники 70х годов в своем пропагандистском «книжном деле» популяризировали и распространяли, наряду с трудами Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Щапова, Берви-Флеровского, и работы Мордовцева, которые входили в круг обязательного чтения большинства кружков народовольцев [См.: Попов Р. М. Записки землевольца. — М., 1933; Лойк о Л. П. От «Земли и воли» к ВКП(б). Воспоминания. — М. — Л., 1929, и др] .
Для творчества Мордовцева характерно стремление отразить дух времени, коснуться наиболее актуальных проблем эпохи. Шестидесятые годы выдвинули на первый план проблему революционного преобразования общества. Передовые русские писатели обращаются в этих условиях к образу положительного героя, «нового человека», порожденного развитием страны, началом нового подъема освободительного движения. Этот герой выступает как защитник и выразитель интересов угнетенных, борец за лучшее будущее. Высшим достижением революционно-демократического направления в русском реализме XIX века стал роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».
Читать дальше