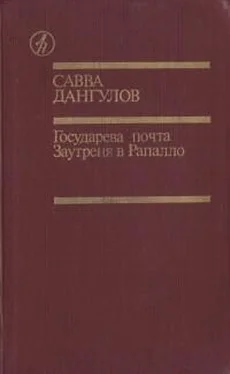Стеффенс ушел, а Сергей встал у кромки тротуара — чувствовал, что сказанное американцем нуждается в осмыслении. Значит, Христиания, Нансен?.. Как понять формулу Стеффенса? Что значит легализовать миссию? Спустить на тормозах так, чтобы сам господь бог остался в неведении? Речь в Москве шла о мире, а теперь пойдет о хлебе?.. Ну, что же, и хлеб для голодной России благо… Рейс в Христианию?.. Но как об этом сказать ей?.. И надо ли говорить?.. А может, именно ей и надо сказать? Кто это поймет, как не она? Это же путешествие к Нансену, который и для нее был вроде наместника бога на земле! К Нансену!..
Окно Дины выходило в сад. Как ни молода была листва, деревья удерживали влагу недавнего дождя. Пока Сергей шел к окну, отводя листву, руки стали мокры, вода набралась в рукава. Окно было освещено, листва просвечивала и казалась желтой. Он дотянулся до окна, намереваясь постучать, и невольно отнял руку. Дина играла. Ну, это был тот мажорный фраг-
t С . Дангулов
225
мент из Четвертой симфонии Чайковского, который он просил ее сыграть накануне. Казалось, она и не прекращала играть Чайковского. Как начала, так и играет до сих пор. В мелодии была доверительность живой речи. Жалоба, укор, а подчас и вызов. Однако о чем она молила, в чем желала укорить? Все было анонимно, но как много это говорило сердцу… О ней говорило.
Он постучал. Не диво ли, что возможность войти в ее дом зависит только от нее? Только от нее. Захлопнулась крышка инструмента, хлопок был едва слышным. Не иначе, она испугалась, тем более что в его стуке не было трех ударов, о которых они условились. На противоположной стене дернулась тень, видно, свет был от пюпитра, он погас. Сергей хотел ее успокоить и стукнул в окно, а потом, все так же разгребая руками едва оперившуюся мокрую листву, пошел вокруг дома. Он вбежал в дом и теперь уже сумбурно, без разбору, предав забвению уговор о трех ударах, забарабанил в дверь, моля отпереть ее. Дверь открылась, и он шагнул в темь кромешную. Подле ее не оказалось, только слышалось дыхание, доносящееся издали. В комнате все так же было темно, она устремилась к двери прежде, чем успела зажечь свет… А потом вдруг загудела, загрохотала, застонала на все лады эта темь. Он не помнит, как за ним захлопнулась дверь, как она шагнула ему навстречу, храня эту темь, как закружилась голова от самого шороха ее рассыпавшихся волос, с каким сметающим все порывом она обратилась к нему, как затрещало платье… Нет, тьма и в самом деле была кромешной, как непроницаемой была тишина, только взрывались, обращая в прах тишину и темь, гремящие вздохи, точно немыслимое бремя вдруг легло на них и они понесли его с радостью, какой еще не знали…
— Молю тебя, слепи мне курносого младенца!.. — молила она его. — Молю — курносого, курносого!..
Когда смирилось сердце и глаза привыкли к темноте, он вдруг увидел эту ее кровать, немыслимо пышную и недосягаемо высокую. Не хотелось оставлять твердый палас и перебираться на кровать…
— Только, ради бога, не зажигай света, не зажигай… — просила она, обвив руками его шею. — Ради бога…
— Поедем вХристианию… — говорил он ей, не бы-
ло в эту минуту слов желаннее. — Там, говорят, через неделю уже зацветает сирень… Ты согласна?
Она засмеялась, никогда она не смеялась таким светлым смехом.
— Это же такое счастье… взять и поехать с тобой в Христианию, — отвечала она. — Нет, нет, истинно счастье: в Христианию!
В эту минуту все ей было в радость, даже само сочетание слов.
— В Христианию, в Христианию…
В девять Буллит был у Хауза. Все так же охотно Хауз принял Буллита.
Сегодня он даже вновь попытался вовлечь в их диалог президента.
— Мой начальник, у меня Вильям Буллит, — позвонил он Вильсону, у него была завидная способность говорить напрямик. — Быть может, есть резон вернуться к русским делам? Что вы сказали, мой начальник? Одолела Германия?.. Не до русских дел?.. Ну что ж, я готов, мой начальник!.. Как всегда, мой начальник!.. Как всегда, — повторил Хауз. — Как всегда–а–а!.. — он почти переложил эти два слова на музыку. — Ка–ак все–гда–а-а! — ему понравилось петь. — А может, сделать так, чтобы вас принял британский премьер? — он перестал петь. — Пока наш президент занят германскими делами, пусть вас примет премьер, как вы?.. — произнес он воодушевленно. Вот Хауз опять заговорил о встрече Буллита с Ллойд Джорджем, заговорил настойчиво — прими Ллойд Джордж Буллита, он бы снял камень и с души Хауза. — В конце концов, идея поездки принадлежит и ему?.. А потом президент и премьер обсудят этот вопрос вместе?
Читать дальше