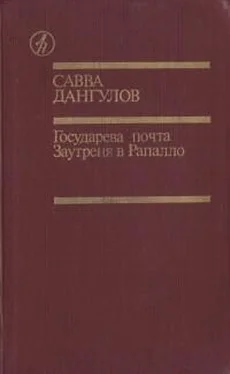— Да ты ли это, брат? — поднял он забинтованную руку–тульская рана зарубцевалась, да не очень. —
Ие насовсем ли к нам? — уже приняв его в медвежьи свои объятия, Герман глянул через плечо брата и рассмотрел в снежной мгле раннего утра лохматую на французский манер шапочку Дины. — Погоди, погоди, а это кто с тобой в капелюхе?
— Жена…
— Коли жена, то насовсем… — и, обернувшись, крикнул что было мочи, не страшась напугать обитателей цветовского дома: — Эка вас сон одолел, все проспали — Сергей вернулся!..
Но дом не отозвался. Только было слышно, как в своей светелке всхлипывает, давя рыдания, проснувшаяся с первыми ударами в дверь и внявшая разговору братьев Лариса да где–то совсем рядом, покашливая и вздыхая, мается в тревоге жестокой баба Настя…
Был тот час, когда дневного света уже не хватает, а вечерний еще не включен, — в неярких мартовских сумерках беломраморная лестница, казалось, отдает свет, который она накопила за день. Не будь этого света, можно было бы и разминуться — он ходил по мрамору, как по ворсистой ткани, нога точно утопала в камне, шага не слышно. Он остановился, опершись о перила лестницы, его борода, в последнее время буйно завившаяся, была устремлена в меня:
— Это вы, Воропаев?
— Я, Георгий Васильевич. Он пошел на меня.
— Почему так поздно?
Этот вопрос мог задать ему и я, но пощадил.
— Собираюсь на дачу…
— А не ветрено?
— Нет, хорошо — я люблю мартовский снег с сол! цем пополам.
— Ах да… сегодня же суббота, — засмеялся он: мысль о субботе застала его врасплох, ему стало весело. — Не в Петровский ли парк?
Это и для меня было неожиданно — откуда он знает про Петровский?
— В Петровский… — протянул я растерянно.
Он ткнул кулаком в бороду и точно свернул ее набок.
— Некогда в Петровском парке была и чичерин–ская дача!
— На вашей памяти, Георгий Васильевич?
— Пожалуй, и на моей.
Про дядю Бориса не было сказано ни слова, хотя нам было ясно: в Петровском парке жил он.
— А нет ли у вас желания побывать в Петровском, Георгий Васильевич?.. Как некогда?
Он рассмеялся — ему было приятно мое приглашение.
— Не воспротивлюсь…
Я торжествовал — наверно, это отразил мой голос;
— Седельный, сорок два — в любое время…
Он будто смешался — только сейчас понял, что разговор чреват обязательствами, которые могли и не входить в его планы. — Благодарю.
Мы сейчас стояли у двери моего кабинета.
— А видели вы новый труд о венской опере, который мне привез Боровский? — спросил я и открыл дверь; он вошел не без колебаний, обычно он входил ко мне охотнее, видно, у него было дело, оно его торопило. Я предложил сесть, но он отказался — осторожно вынес книгу к свету, переложил лист, другой.
— Вот и тут эта не новая ересь: «Моцарт — век восемнадцатый». Ну, что можно сказать?.. Голословно! Нельзя человека вот так намертво прикреплять, нет, не только ко дню и году — даже к веку! Есть люди, в лике которых как в зеркало глядит завтра… Смотри на человека и понимай будущее. Мне скажут: простите, но Моцарт все–таки родился в веке восемнадцатом. Да, в восемнадцатом, но это в данном случае не самое главное!..
Он сделал шаг к двери.
— А как насчет Петровского парка, Георгий Васильевич?
— Благодарю, благодарю…
По правде говоря, мне казалось его «благодарю» больше церемониальным. Я даже готов был обидеться: да воспринял ли он мой адрес? Если же воспринял, то почему не извлек свой блокнот со спичечный коробок, не чиркнул карандашом–спичечкой, а всего лишь вымолвил почтительно–покорно «благодарю» и ушел, как несколько минут назад, вминая подошвы штиблет в мрамор, который все еще казался податливым? Признаться, в своей обиде я не учел, что его память обладает качеством цейсовского чуда — в нужный момент заветный лучик, усиленный линзой, откладывается на матовой поверхности негатива.
Но прежде чем закончился этот день, я стал свидетелем разговора, который, как мне померещилось, мог иметь отношение к завтрашнему визиту Чичерина в Петровский парк.
Разговор произошел в большой комнате отдела печати, где разбиралась пресса. Наркоминдельских полиглотов, читающих на нескольких языках, сама судьба влекла в эту комнату — сегодня здесь пересеклись тропы Воровского и Красина, да и моя смятенная тропа.
Боровский (он даже не успел сесть — отставил палку и привалился плечом к книжному шкафу: после брюшного тифа, которым Боровский жестоко переболел, он ходит с палкой). Воропаич, ты чего сбрасываешь окуляры, когда читаешь газету, а не наоборот? (Он произносит все это, не отрывая глаз от. иста, произносит так, чтобы слышал Красин, — ему надо затравить иронический разговор.)
Читать дальше