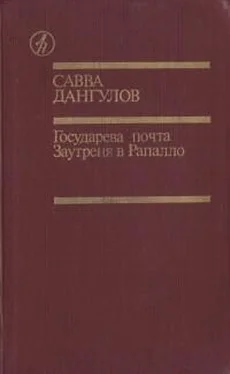— Прости меня, но ты бы сбрил эти свои бакенбарды, которые делают тебя похожим на Генрика Ибсена. Город возмущен: «Нансен поставил у ворот Ибсена, позор!»
Привратник ответил улыбкой незлобивой и, выйдя на минутку, внес керамическую тарелку с пышками, жаренными на подсолнечном масле.
— Это жена велела… Сказала: отнеси Фритьофу, он небось, бедный, околел там на своей голубятне!
Нансен был заметно растроган, однако настоял на своем:
— Ты все–таки сбрей свои глупые бакенбарды — не хочу, чтобы Ибсен стоял у нансеновских ворот.
Явился чиновник. Он был важен, как и надлежит быть министерской птице. Чиновника можно было понять. Он явился сюда как официальное лицо, а Нансен принимает его едва ли не на чердаке, да еще осмеливается угощать пышками, жаренными на подсолнечном масле.
— А по мне, ничего нет вкуснее!.. — нахваливал Нансен пышки. В ответ чиновник оттопырил верхнюю губу, отчего два уса важной птицы сердито шевельнулись и устремились на хозяина рогатинами. «На кой черт мне твои пышки, жаренные на подсолнечном масле! — будто говорил чиновник. — Да неужели ты не внял, с кем имеешь дело? Я посланец самого министра и к тому же директор департамента, вот я кто, а ты со своими пышками!»
Но Нансен, по всему, пренебрег высокими званиями чиновника, а может быть, их и не заметил. Сбросив шлепанцы и подобрав под себя левую ногу, Нансен дал понять посланцу министра, что готов его выслушать. Чиновник многозначительно кашлянул и заметил, что суть дела изложена в письме, которое он вручил Нансену накануне. Однако, к величайшему изумлению важной птицы, Нансен сказал, что не помнит письма. Чиновника объяло смятение, он смотрел то на Нансена, то на русских гостей, не зная, что ему делать, но Нансен будто не замечал этого. Чиновник мог обратиться к уловке, которая спасла бы его — изложить суть просьбы по–норвежски, — но представитель министра считал себя человеком воспитанным и не мог допустить такой вольности. Поэтому он мобилизовал не столь уж богатый запас своих английских слов и изложил свою просьбу. Получилось не столь лаконично, как могло получиться по–норвежски, но понять можно было. Короче, чиновник прибыл, чтобы склонить Нансена войти в подобие синдиката, который образовало министерство, решившееся поднять со дна моря затонувшие во время войны торговые суда. Имя Нансена, как можно было понять, должно было сообщить вышеупомянутому начинанию вес, которого ему недоставало.
— Нет, это не филантропия, а вполне реальная мзда, устанавливается гонорар! — заявил чиновник в заключение. Он, конечно, мог и не говорить о гонораре, тем более в присутствии иностранных гостей, но он приехал за согласием Нансена, а это согласие, как он полагал, было бы исключено, если бы не состоялся разговор о гонораре. — Что же я должен сказать министру? — спросил чиновник, когда суть дела была изложена.
Нансен сидел на своей тахте, поджав под себя, как было сказано, левую ногу; разговор длился уже минут двадцать, и нога могла занеметь, но Нансен позы не менял, только слегка наклонял и выпрямлял спину.
— И как же? — спросил чиновник, он слишком тщательно подготовил свой вопрос, чтобы ответ был отрицательным.
— Я, пожалуй, скажу «нет», — произнес Нансен. Чиновник помрачнел — ну, этого он никак не ожидал.
— Вы… серьезно?
— Серьезно. Чиновник вспыхнул.
— Как знаете, но я не могу вернуться к министру с отрицательным ответом… и это уже касается не вас, а меня.
— Но какой ответ дали бы вы на моем месте? — спросил Нансен, могло показаться, что ему стало жаль чиновника.
— Ну хотя бы вот этот: предложение неожиданно, вы должны подумать…
— Валяйте… — едва не захохотал Нансен и пожал руку чиновнику. — А я вас ожидал еще вчера, поэтому и распахнул все двери! — произнес Нансен, обращаясь к молодым людям. В его английском была степенность норвежского. — Письмо от Стеффенса? Ну что ж, это добрый знак… — он опустил с тахты ноги, отодвинул шлепанцы, нащупал кожаные туфли, выложенные поистершимся мехом, не иначе, туфли шились в перспективе очередного похода на «Фраме», они были очень стары. — Добрый знак, добрый, — он вскрыл письмо, прочел, быстро ухватил смысл — он силен в английском. — Вот одолела головная боль. Ходил по льдам на «Фраме», и голова была ясна, а тут… Засиделся, засиделся!.. — он пододвинул стол со странным сооружением, которое венчал картонный валик, утыканный шипами. — Вы видели такое? — он махнул рукой. — Похоже на даму сердца? Ничего общего? Странно. А в моем нынешнем положении это и есть дама сердца. Сегодня с утра разговаривал только с нею и, разумеется, клялся ей в любви и преданности… — он задумался, с пристрастной и твердой пристальностью взглянул на гостей. — Когда рука деревенеет, пожалуй, призовешь и даму сердца, — он перебрал пальцами. Рука была уже стариковской, бледная, в бугристой коже и шерсти. — Сколько горя скопилось в мире… Миллионы, только подумать, миллионы беженцев ждут возвращения на родину, голод подступил к России… Вот сижу и думаю, да по твоим ли слабым силам все это?
Читать дальше