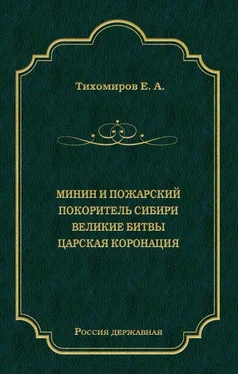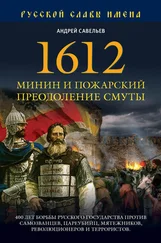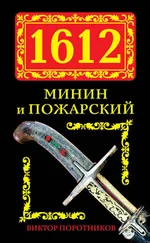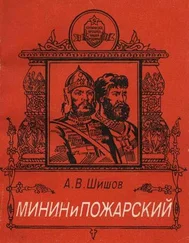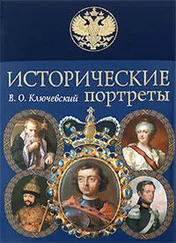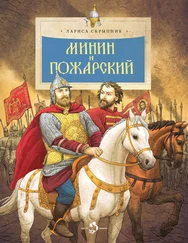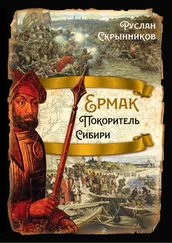В то же время легкие тушинские отряды, рассеявшись по всему государству, приводили города один за другим в подданство самозванцу. Тушинский лагерь скоро превратился в целый город. В самой Москве нельзя было положиться на верность ратных людей: многие ради жалованья или высшего титула переходили на службу к тушинскому царику, а потом возвращались к московскому полуцарю с изъявлением мнимого раскаяния, не стыдясь по нескольку раз повторять эту измену (таких в насмешку называли перелетами). Смятение во всем государстве было несказанное: все дышало крамолой и изменой, везде было брожение и шатость.
В таком страшном положении царь Василий решился искать иноземной помощи: он послал своего племянника Скопина в Новгород просить помощи у шведского короля Карла IX. Шведский король, опасаясь господства поляков в России, отправил на подмогу царю московскому 5 тысяч человек под начальством генерала Делагарди. Шведское войско соединилось с ополчением, набранным Скопиным в северо-западной Руси, и двинулось на очищение государства от тушинцев.
Вскоре дела приняли оборот, благоприятный для Шуйского – отпавшие области снова признали его царем. Скопин-Шуйский разбил Сапегу при Колязине монастыре и собирался разметать Тушинский лагерь. Когда польский король Сигизмунд III подступил к Смоленску, поляки, бывшие с самозванцем в Тушине, перешли к своему королю. Тушинский вор убежал в Калугу, куда вслед за ним прискакала и злополучная Марина, переодетая гусаром. Тогда Рожинский сжег лагерь и отступил с поляками на запад. Казаки, многие русские изменники, холопы и беглые крестьяне опять пристали к самозванцу.
Между тем Московское государство стало оправляться. Герой Скопин, с восторгом встреченный москвичами как избавитель, готовился идти на Сигизмунда под Смоленск, но вдруг занемог и умер, отравленный, по свидетельству современников, на пиру у князя Воротынского женой царского боярина Дмитрия Шуйского, надеявшегося наследовать престол после бездетного Василия и видевшего в общем любимце-племяннике соперника себе.
По смерти Скопина царь Василий стал еще ненавистнее народу. Когда же в Москву пришла весть о поражении близ деревни Клушина гетманом Жолкевским царского войска, отправленного под начальством Дмитрия Шуйского, столица, взволнованная Захарием Ляпуновым, братом Прокопия, возмутилась. Василия низложили с престола (1610). Вслед за тем он был насильно пострижен в монахи и заключен в Чудов монастырь.
Наступило безгосударное время. Правительственная власть перешла в руки верховной думы, состоявшей из семи бояр (Семибоярщина), между которыми первым был князь Мстиславский. Надлежало прежде всего решить, кому быть царем. Но тут обнаружилось сильное разногласие: некоторые держали сторону тушинского Лжедмитрия; патриарх Гермоген, возведенный в патриарший сан при Василии Шуйском, советовал избрать государя из среды русских бояр; верховная дума предлагала пригласить на царство Владислава, сына польского короля Сигизмунда.
Появление гетмана Жолкевского с войском под стенами Москвы решило спорный вопрос в пользу королевича. Бояре вступили в сношения с Жолкевским и согласились присягнуть Владиславу, однако с тем непременным условием, чтобы он принял православную веру, женился на русской и правил с властью, ограниченной боярами и высшим духовенством. Для окончательного решения дела отправлено было к польскому королю посольство, во главе которого находились князь Василий Васильевич Голицын и ростовский митрополит Филарет [3] Прежде боярин Феодор Никитич Романов. В царствование сына его, Михаила Феодоровича, он получил сан патриарха всероссийского.
. Гетман Жолкевский с согласия бояр занял столицу со своим войском, но узнав, что Сигизмунд желает сам быть царем Московским, немедленно уехал под Смоленск, оставив в Москве гарнизон под начальством Гонсевского.
Между тем русские послы вели под Смоленском бесполезные переговоры с польскими вельможами, которые в первую голову требовали сдачи Смоленска, осаждаемого Сигизмундом. Так как послы наши никак не хотели согласиться на это, то Сигизмунд объявил их пленниками и отправил в Польшу, куда отвезли также и бывшего царя Василия с братьями.
Почти в то же время тушинский самозванец был застрелен одним из своих приближенных, крещеным татарином Урусовым. Смерть его развязала руки тем из русских, которые согласились признать царем Владислава только из страха ко второму Лжедмитрию. Притом же весть о замыслах Сигизмунда, ярого католика, возбуждала в Москве общий ропот.
Читать дальше