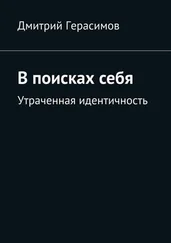Все молчали тогда, боялись. А профессор Блюмкин собирал для несчастных деньги. И писал. В политбюро писал и лично товарищу Сталину. Странный был человек. По лезвию бритвы ходил. Фаталист? Сумасшедший? А может, хорошо знал Кобу 16и догадывался, что спасения нет?
Странно очень, что Блюмкина долго не арестовывали, словно он был заговоренный. Даже подозревать начали, что провокатор, хотя едва ли. Просто рулетка: страшная сталинская рулетка. Беспощадная машина давала иногда парадоксальные сбои…
Как-то в компании, опять-таки в подпитии и при дамочках, профессор, словно в кошки-мышки играя с судьбой, стал рассказывать, смеясь, что на политбюро во время дискуссии – это когда уклонистов били в двадцать восьмом году – Бухарин бросил Сталину: «мелкий восточный деспот». За фразу эту, может, Бухарин и заплатил жизнью 17, любил покрасоваться Николай Иванович. «Вот тебе и Мойша-Абе-Пинкус Довгалевский» 18, – смеялся папа.
Да, все они любили покрасоваться, и Троцкий тоже, особенно на трибуне, считал себя неотразимым оратором, неприкасаемым. Но время настало уже другое: главный герой Гражданской войны, этот фанатик и нарцисс, расстреливавший, бывало, десятками, в противостоянии со Сталиным вел себя как обыкновенный вздорный мальчишка. Все кончилось тем, что бившегося в истерике Троцкого вынесли из дома на руках и отправили в Алма-Ату 19. Но это было только начало.
Бухаринский процесс в тот момент предположить было трудно, однако – тенденция налицо, и вовсю лилась кровь, так что самые проницательные догадывались, но профессор Блюмкин беззаботно смеялся и близоруко смаковал. А напрасно… Уже Зиновьева с Каменевым недавно казнили 20и Киров был убит довольно странно 21. Но, хотя Троцкий был покамест жив и мало кто ожидал Меркадера с ледорубом 22, и все это правдой было про деспота, разве что «великий» или «величайший», а не «маленький» – громыхало сильно, неистово пахло небывалой грозой, и горели на небе огненные буквы… Вот оно, послесловие революции…
Да, горело и громыхало вокруг, но профессор Блюмкин, этот вечный теоретик, этот мальчик шестидесяти с лишком лет, вел себя подобно мотыльку.
«Мечтательные, близорукие мотыльки и стрекозы устраивали революцию, праздновали, танцевали и пели и не видели ничего вокруг, пока и революцию и их самих не сожрали могильные черви», – Леонид Вишневецкий помнил, что что-то в этом роде незадолго до смерти сказал папа. Отец тоже любил красиво говорить.
Григорий – настоящее, еврейское имя отца было Герш, однако он всегда назывался Григорием, по-русски, – очень скоро понял, куда и к кому по неведению попал в аспирантуру. Вернее, не попал, а вляпался. Безумный профессор, неисправимый краснобай, не только себя подставлял – всех. Любил вспоминать ссылку в Архангельскую губернию. Но это не ссылка была, не сталинский курорт, а царский рай – с дискуссионным клубом, по очереди в гостях у разных ссыльных, с интрижками, межфракционной борьбой, выпивками, охотой, ночными чтениями Маркса. Там иные из идейных превращались в обыкновенных скотов: пили, сквернословили, дрались с деревенскими, гадили друг другу, спали с местными бабами, делали им детей и сматывались за границу. Революция, которой они служили, все должна была списать, им все было можно…
Блюмкин, по словам папы, навсегда остался в том, полублагородном-полубезумном, романтическом времени. Новое время, сталинское, кровавое, он не чуял, оно как бы протекало мимо него, то ли по природному его, неистребимому легкомыслию («швицер» 23 – посмертно квалифицировал его папа), то ли из-за рано наступившей, сродни маразму, зашоренности.
Всю оставшуюся жизнь отец очень гордился своей проницательностью. Лёня родится только через два года после войны, но отец в то давнее время уже женат был на однокурснице, и старшей сестре стукнуло четыре года, – он понял: надо бежать, спасать семью. Бросить аспирантуру и бежать. Как-то отец сознался: он кожей чувствовал, ощущал приближение тридцать седьмого года. Атмосфера сгущалась не по дням. Воздух был пропитан страхом. Отец долго колебался: не донести ли? Иначе донесут другие, а его упекут за недоносительство. Не он один, многие люди теряли головы. Судьба профессора Блюмкина казалась папе решена. Живой труп. Он хорохорился, но папа знал: старому дуралею предстоит сойти в ад. Даже если бы он молчал, слишком много за Яковом Моисеевичем накопилось. Прошлое… Но Блюмкин не мог сойти один. Всюду искали контрреволюционные организации. О н и дьявольски любили громкие процессы. Повсеместно находились свои Вышинские 24, везде, до самых до окраин, подражали Москве.
Читать дальше