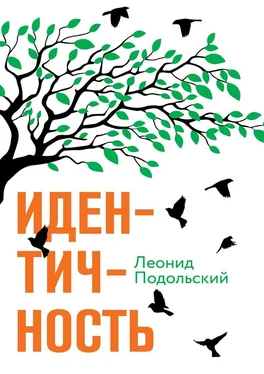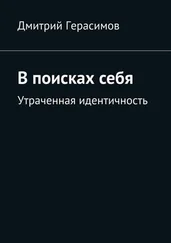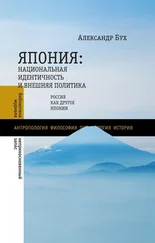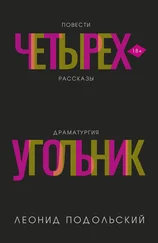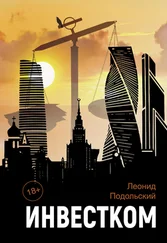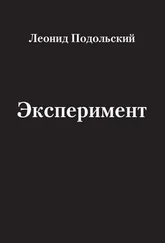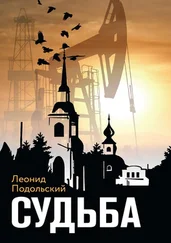Дома Лёнечка спросил у тети Сони: «Что такое юрей?»
– Кто это сказал? – спросила тетя.
– Валечка. Внучка начмата.
– Не играй с ней, – сказала тетя Соня.
– Почему?
– Она нехорошая, – Лёнечка так ничего и не понял тогда, догадался лишь годы спустя, но Валечка по-прежнему ему нравилась, хотя он не играл больше с ней. Впрочем, совсем не из-за совета тети Сони. Валечка жила с родителями в другом месте и нечасто приходила к дедушке с бабушкой, к тому же в редкие свои приходы почти всегда играла с девочками.
Вечером тетя Соня пересказала разговор папе. Лёнечка не слышал, что говорила тетя Соня, но догадался, потому что папа сказал:
– Они, видно, дома так говорят. А ведь не подумаешь. Фронтовик, полковник, очень уважительный. Рассказывал как-то, как они освобождали Освенцим. Страшное место.
Папа был умный человек. Энергичный и умный. И вроде бы удачливый: не погиб, выбрался из окружения, не сидел, заведовал кафедрой, не бедствовал. И в то же время судьба его оказалась сломана. Оттого он, возможно, и умер в шестьдесят…
…Мимикрия – это оказалась тяжелая болезнь: мимикрировать, прятать душу от чужих глаз, скрывать свое «я», глубинное, интимное, страх, вечный страх, как у разведчика… Лишь в последние годы папа стал приоткрываться. Но многое, очень многое Леонид Вишневецкий додумывал потом, без отца уже, когда и спросить стало некого. Кое-что рассказывала мама. Но Леонид не всегда осмысливал. Складывал на полку памяти, откладывал на потом, а когда наступило это «потом», когда появилось время – уже в Израиле, – никого не осталось. Он – последний…
Вспоминая и размышляя, бродил Леонид Вишневецкий до полуночи по опустевшим пляжам Бат-Яма или Нетании – издали дуновения ветра доносили иногда до слуха музыку; музыку свадеб, плач скрипок о прошлом, о несостоявшемся счастье или, наоборот, взрывы неистового веселья. Сам Леонид любил слушать другую мелодию: раздумчивый шум вечных приливов-отливов, таких же, как слушали цари Саул, Давид и Соломон, рабби Акива 1, Иоанн Креститель и сам Христос. Он шел обычно вдоль моря, любовался звездами и думал: его жизнь сложилась не совсем так, как он хотел бы – Леонид всю жизнь жалел, что не изучал философию и историю, что не постиг, не узнал что-то очень важное, он всю жизнь проработал врачом – и все равно он был счастлив. Он был счастлив оттого, что вокруг него дети и особенно внуки. Не очень близкие, он слабо усвоил иврит; они, пожалуй, считали его чудаком, не понимали его мечтательность, его глубокую задумчивость, язык, на котором он разговаривал, но какое это имеет значение? Главное, что он живет в своем мире и среди своих. И еще он был счастлив оттого, что похоронят его в родной земле, которую господь Б-г завещал праотцу Аврааму. Слова Тель-Хай 2, Мегиддо 3, Эль-Кунейтра 4, Масада 5наполняли его грудь гордостью и заставляли чаще биться его сердце.
В отличие от Лёни, отец никогда не был свободен, и никогда не довелось ему ступить на Землю Израиля. Он принадлежал к поколению, которое, повторяя судьбу дальних предков, снова оказалось во власти фараона. Странная судьба и – жестокая. Отец был победителем, чуть ли не всю войну прошел политруком, дослужился до полковника, всю грудь его украшали ордена и медали и однако… Победа над злом не означала безусловного торжества добра… Лёня был слишком молод, всего двадцать два года, когда умер отец. Многое узнал он потом: какие-то детали, факты, фотографии, мамины случайные рассказы, тети Сонины – многое постиг он позже, реконструировал, особенно в последние годы, кроме одного, главного – отчего отец стал историком и философом-марксистом? Верил, поддался обману, как большинство юношей и девушек его поколения или? Наверное, верил, но разочаровался…
К тому времени, когда Лёня себя помнил, от прежней веры у отца мало что оставалось, он все понимал, но… Нельзя было этого говорить. Отец был обречен на молчание или ложь. Папа выбрал ложь. Это был не его выбор. Он очень мучился, не сознавался, быть может, даже самому себе. И только иногда прорывалось. Когда советские танки вошли в Прагу или когда Лёня заканчивал школу и хотел поехать в Москву поступать в МГИМО. «В МГИМО евреев не берут, – сказал отец. – С конца тридцатых годов. С того времени, как у Сталина случился любовный роман с Гитлером». «Тогда в МГУ», – настаивал Лёня. «Нет, на историю или философию только через мой труп. Пустые догмы. Десятилетиями ни одной свежей мысли. Когда-нибудь все это лопнет. Останешься без работы. Хватит с нас того, что меня всю жизнь мутило. Лучше иди в медицинский. С твоей головой ты легко сделаешь кандидатскую и докторскую».
Читать дальше