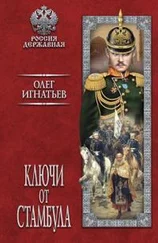– Говорят, что пустыня безлюдна, – обращаясь к Татаринову, сказал Игнатьев и проводил глазами очередной торговый караван. – Как же она безлюдна, если дорог не счесть и караван идет за караваном? Самый обычный проходной двор, только чересчур длинный.
– И чересчур узкий, – отвечал Александр Алексеевич, подразумевая интересы России в Средней и Восточной Азии. У него сильно обгорел нос, и он заклеивал его бумажкой.
В знойном мареве струились и дрожали очертания далеких гор. Николаю вспомнилось лето в отцовском имении, в сельце Чертолино. Мужики и бабы на покосе, аромат цветущих и скошенных трав, парные туманы в подлеске, над тихой стоячей водой; обильная роса на доннике, на лопухах, на развернувшем свои листья подорожнике. Где-то в роще гулко стучал дятел, куковала кукушка, на дорогу выскакивал заяц. И, словно догадавшись о его душевном настроении, Татаринов вздохнул:
– Сейчас бы косой побренчать, росу посмахивать с травы.
– Одним словом, – засмеялся Игнатьев, – сейчас бы домой!
– Домой, – согласился Александр Алексеевич. – Туда, где косы, вилы, грабли. Шалаши косцов, родной язык, русские песни.
Услышав про песни, хорунжий гаркнул: «Запевай!» – и показал кулак Шарпанову. Тот понял. Свистнул и привстал на стременах:
Гой-да выпью рюмку, рюмку стременную,
Поклонюся родной мать-сырой земле…
С песнями, с частушками добрались до Калгана.
Пошли в мыльню.
«В Китае без воды и бани пропадешь, – предупредил Татаринов. – Завшивленность народа ужасающа».
– А руки перед едой китайцы моют? – спросил Вульф.
– Большинство – нет, – ответил драгоман, – В этом они усматривают непокорность судьбе.
– Оригинально, – скорчил гримасу брезгливости секретарь.
Через два дня отдыха, взяв необходимый запас воды и провизии, двинулись по калганской дороге в сторону Пекина.
Игнатьев заметил, что, как только они пересекли границу Китая, отношение к посольству стало более чем прохладным. Официальной встречи не было. Маньчжуры прислали двух чиновников – проводников, но это больше напоминало надзор, нежели гостеприимство.
Если что и утешало, так это природа Китая. Она была настолько эффектна сама по себе, что местами создавала готовые парковые уголки. Их естественная живописность очаровывала с первого взгляда. Горы – самой причудливой формы, нагромождения камней у горных озер и рек – неизъяснимой фантастической окраски; обломки скальных пород сверкали вкрапленными в них самоцветами. Все виды дикой первозданной красоты встречались на пути. Между скалами и в их распадках, в суровых и таинственных расщелинах, порою на огромной высоте гнездились кусты терновника и барбариса, боярышника и кизила, изумлявшие своей яркой зеленью и радугой соцветий. То тут, то там камни и скалы смыкались в сказочные гроты, замыкали каменным кольцом уютные цветочные поляны. Встречались деревца с нежно-лиловой травчатой листвой и ярко-красными стволами. На одной лесной опушке встретились цветы, напоминающие белые фиалки. Серебристый тополь соседствовал с душистым можжевельником, с целыми его темно-сизыми зарослями с характерным пряно-смолистым запахом, бодрящим и дурманящим одновременно, как белые стебли маньчжурской конопли, обожженной летним зноем.
– Я представляю, как здесь чудно осенью, – не скрывал своего восхищения Татаринов и жалел о том, что он не живописец. – С ума можно сойти от этой красоты!
Увитые плющом стволы могучих сосен, замшелые коряги кедров и чинар, следы давнишних и недавних буреломов, остовы скал, играющие всеми гранями изломов в рассветных лучах солнца, их причудливые формы, не сравнимые ни с чем, несли на себе печать загадочных доисторических времен, каких-то фантастических событий и явлений.
Татаринов и Вульф уговорили Игнатьева остановиться и хоть на время позабыть о суете, побыть наедине с природой.
– Притомились лошадки, надо погодить, – поддержал их хорунжий.
Там, где посольство спешилось, мелкие шустрые ручейки впадали в горную речку, а та, чему-то радуясь, играя солнечными бликами, прыгала с камня на камень, а то и вовсе летела вниз, очертя голову, в объятия водопада – шумела, пела, завораживала взор.
Любуясь первозданной красотой пейзажа, Николай понял, отчего китайские монахи уходили в горы. В горах мир иной, в горах все создано для созерцания, покоя, умиротворения.
Живая благодать забвения.
Дивный сон.
– Гля-ко! – первым увидел Пекин остроглазый Шарпанов, – Нашу церкву видать! – Чуть правее убегавшей вдаль дороги блистал на солнце православный крест.
Читать дальше