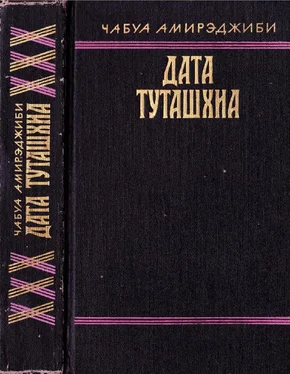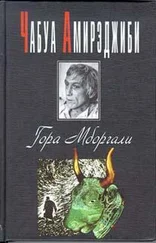— Я бы дал им Государственную думу. Пусть себе выбирают и болтают.
— Если народ сам ее выберет, эту самую дурацкую твою Думу, или как ты еще там ее назовешь, и каждый начнет болтать, что ему в голову взбредет, то не пройдет и года, как правда о царе и царизме распространится в народе. Что тогда тебе, царю, делать? Тебе, разоблаченному, наизнанку вывернутому царю? Видишь, опять негоже получается…
— Да я им не Думу, а кукиш под нос!
— Ладно, не учредишь ты Думу. Чем тогда успокоить народ? А не успокоишь — амба. Допустим даже, что правительству удалось задушить все эти митинги, демонстрации, восстания. Ну и что? Политические вожди учтут ошибки. Народ, на время затаившись, найдет минуту, чтобы вновь ударить по царю, и тогда поминай как звали и тебя, царя, и все твое царство. Умирающему, брат Роберт, ничего не поможет, кроме причастия и свечки!
Мы почти одолели подъем Барятинской и уже собирались свернуть на Головинский проспект, когда мне — ну, просто невмоготу — вздумалось задать Дате Туташхиа один вопрос:
— А что бы ты сделал, дядя Прокопий? Что бы придумал?
— На месте царя? Я бы отрекся от престола, если б, конечно, смог бы себя перебороть. Уехал бы за границу и жил бы там себе где-нибудь, поживал… Но все это шутки.
— А на месте народа?
— Я бы делал то, что народ делает. Только погодил бы немного.
— А чего ждать?
— Я бы вожака подождал. Такого, который бы всех других вожаков одолел, был бы самый справедливый и больше других пообещал.
— Ну и что? Пошел бы ты за этим вожаком?
— Народ пойдет. За таким народ всегда идет.
— Ну, а ты сам? Ты, дядя Прокопий, пошел бы?
— Пошел бы, да тут два условия надобны. Я должен убедиться, что тот человек, который сметет старое, не повторит того, что есть теперь. Чтобы не обошлись с народом, как с курятиной: жареная не вкусна, а вот отвар будет в самый раз. А получится ли? Создать совсем новое, скажу я тебе, очень трудно, да и нужно ли создавать — вот вопрос. А теперь другое и главное. Помнишь, в вагоне кто-то сказал: «Мнения правят миром», а в Мазутном нашелся другой, он сказал: «Хлеб правит миром». А спроси меня, я тебе скажу… «Миром правит зависть и жадность». Мы, люди, сами еще очень дурны, очень низки — оттого так все и получается. Пусть найдется такой, кто уговорит меня: старое сбросим, построим новое, и это новое сделает человека лучше, да я за ним сам пойду и пригожусь ему не хуже любого другого, а может и получше.
Головинский проспект был забит народом. Видно, многие знали, что готовится манифестация. Люди вышли будто погулять, останавливались со знакомыми, болтали, фланировали. Но через каждые десять — пятнадцать шагов торчало по полицейскому, и цокот казачьих лошадей по мостовой резал слух.
Мы остановились возле гостиницы, когда кто-то закричал:
— Идут!
Дата Туташхиа вынул часы, поглядел время и стал всматриваться в толпу, будто искал в ней кого-то.
Сперва показалось духовенство, неся впереди себя огромный образ Михаила-архангела. За образом — портрет Николая II, а дальше иконы, хоругви и море людей. Шествие свернуло к опере, подползло к Александровскому саду, но демонстранты, собравшиеся в саду, стояли недвижно и молча. Будто ждали чего-то. По обеим сторонам шествия тянулись казачьи цепи. Манифестанты ступали тяжелым медленным шагом и пели «Боже, царя храни!». Над ними тоже колыхались призывы: «За царя и отечество!», «Долой бунтовщиков!», «Вера, надежда, любовь», и все в том же духе. Некоторые шли семьями, с детьми на плечах.
Они поравнялись с нами.
— Чувствуешь вонь? — спросил Дата Туташхиа.
Воздух был пропитан запахом ладана, водочного перегара и лошадиного пота. В голове манифестации шли церковные певчие, голоса которых были отшлифованы на хорах кафедрального собора. Их пение звучало внушительно, но в середине и в хвосте манифестации пели вразнобой й невпопад. Кого подводил голос, кого слух, и из всего этого получался такой рёв, что казалось, вот-вот обрушится новый потоп, а эта огромная толпа в предчувствии близкого конца исторгает из себя предсмертный вой. Церковный хор закончил петь, в середине толпы взвизгнула гармонь, несколько человек пустились в пляс, но в голове шествия затянули снова, и плясунам велено было прекратить.
И опять рёв.
Они миновали гостиницу. Казачьи лошади, замыкавшие шествие, перед самым нашим носом извергли порядком навоза. И тут из Александровского сада двинулись демонстранты. Я ждал, что и они пойдут к опере. Но нет. Развернув лозунги, они свернули влево и направились в противоположную сторону, ко дворцу наместника. Это было и вовсе неожиданно. Черносотенцы под конвоем казаков шли вверх по проспекту, а демонстранты текли в другую сторону. Вроде бы все было верно: манифестанты хотели обнародовать свои чувства перед городским населением, а демонстранты выложить свои требования наместнику как верховному представителю власти. И все-таки такой поворот дела озадачил не одного меня, но саму черную сотню. Манифестация стала и повернулась лицом к демонстрантам. А из Александровского сада валил и валил, словно лавина, мощный людской поток.
Читать дальше