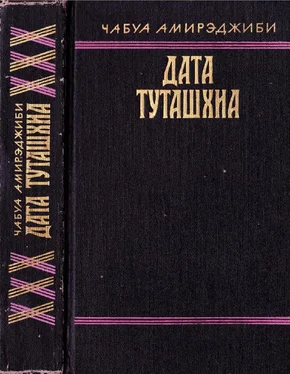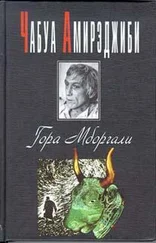Она подняла руку.
— «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, а само вытечет, и мехи пропадут». От Луки, пять, тридцать семь, — я проговорила это четко, по слогам, да и чего мне было теперь бояться, если назавтра голод и одиночество были обеспечены.
Настоятельница посмотрела на меня, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой, да такой нежной улыбкой, будто она благодарила меня за то, что нашла слова, противоречащие ее мыслям, и прочла их быстро и с хорошей дикцией.
— Я подумаю об этом, — сказал Дата Туташхиа, и больше о монастыре не говорили.
Прошел год или даже больше, и однажды я спросила настоятельницу:
— Пострижется Дата Туташхиа?
— Никогда!
— Тебе понадобилось время, чтобы понять это?
— Я знала это еще тогда.
— Зачем же уговаривала?
— Так повелевал долг. Перед господом и перед Датой! Мне страшно было, что его убьют. Мне и сейчас страшно! — Евфимия воздела руку.
— «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда. А сын человеческий не имеет, где приклонить голову». От Луки, девять, пятьдесят восемь, — сказала я, и Евфимия осенила себя крестом.
То был единственный случай, когда я видела слезы на жестком лице Евфимии.
Уже близился рассвет, когда я, засветив фонарь, отправился проводить в монастырь настоятельницу Евфимию и госпожу Саломе. Хорошо помню, вот и госпожа Саломе согласится со мной, что всю ночь после этого разговора Дату Туташхиа не оставляла задумчивость. Бывает, вертится в голове мысль, но пока другой не произнесет ее просто и внятно, ты на ней своего внимания не задерживаешь. В ту пору вышло так, что Дата Туташхиа приходил к нам несколько раз подряд. Сейчас я вижу ясно и понимаю, что он пребывал тогда в тяжелом и сумрачном состоянии духа. Полной уверенности быть не может, но мне кажется, что все говоренное той ночью и настоятельницей Евфимией, и нашим отцом Магали повлияло на то, что Дата Туташхиа сам пошел в тюрьму. Не могу сейчас вспомнить точно, через сколько времени после разговора, о котором рассказала сейчас госпожа Саломе, — только помню, немалое время прошло, совсем немалое, — но случился в нашем доме еще один разговор, и мне опять довелось при нем быть. Сейчас поздно, подите отдохните, а завтра утром я расскажу вам про тот разговор — успею уложиться до того, как вам надо будет идти к поезду…
ГРАФ СЕГЕДИ
Ужин у Кулагиных отличался от других собраний подобного рода лишь тем, что был безмерно скучен. Случилось так, что я опоздал почти на два часа. Со времени моего появления ничего примечательного не произошло, если не считать того, что мадемуазель де Ламье была сегодня печальна и показалась мне привлекательнее, чем у Князевых. Раза три я поймал на себе взгляд Сахнова, будто уличающий меня в чем-то неблаговидном. Я подумал было, не сплоховал ли в чем-нибудь Зарандиа, но предчувствие мое молчало, и вскоре я уже забыл о безмолвном негодовании Сахнова. Я оставался до половины двенадцатого, а затем, сославшись на дела и извинившись, отправился домой.
Вот и все.
В одиннадцать утра я был уже в своем кабинете и размышлял о том, зачем понадобился Зарандиа ужин у Кулагиных, как вдруг распахнулась дверь и мне доложили о Сахнове.
Он вошел, небрежно со мной поздоровавшись и тут же вытащив несколько листков канцелярского формата, сложенных вчетверо, и швырнул их мне на стол, да так, что листки, скользнув по поверхности стола, едва удержались на его краю, но меня так и не достигли.
В моем мозгу молнией мелькнула мысль, что Сахнов вызывает меня на дерзость, а так как мы были одни, он мог, будь на то надобность, представить наш разговор в том свете, в каком ему заблагорассудится. Это был бы номер сахновского толка, но обстоятельства последнего времени требовали не давать ему даже этого сомнительного преимущества. Поэтому я попросил полковника Князева немедленно зайти ко мне.
Когда он явился, в кабинет заглянул адъютант Сахнова.
— Прошу вас, ротмистр, подать мне эти бумаги, что лежат на углу стола!
Адъютант вошел, немедленно протянул их мне и лишь тут ощутил неловкость — неужели он был вызван затем, чтобы подать бумаги, за которыми достаточно было протянуть руку?
— Что это, господин полковник? — спросил я, развертывая сложенные листки и тут же узнавая их, — это была прокламация Спадовского!
— Вот плоды вашей деятельности, вашей опытности и, как я полагаю, проявление искреннейшей преданности! — выкрикнул Сахнов и разразился пространной тирадой, оскорбительной по тону и смыслу, в которой я представал безнадежно тупым идиотом и врагом престола, умышленно позорящим свой титул и звания.
Читать дальше