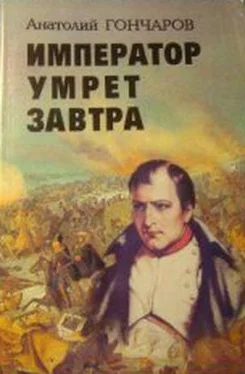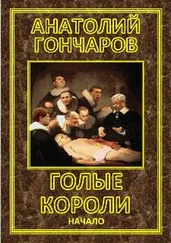Жаль, что об этом нельзя побеседовать с Наполеоном. А более не с кем. И незачем. Наполеон чувствовал больше, чем понимал — вот любопытный парадокс гения.
«Я ощущаю себя гонимым к какой-то великой цели, Мне неведомой. Как только я ее достигну, достаточно будет и атома, чтобы меня раздавить. До этого момента, однако, ни одна человеческая сила не способна сделать со мной что-либо».
Гонимый к неведомой цели… Все гораздо сложнее И в то же время проще. И якобинцы, и роялисты одинаково вредны. Одни рвались к власти, не зная, Что это такое и не будучи к ней хоть сколько-нибудь приспособлены, другие потому что были развращены ею духовно, ибо видели во власти лишь счастливую династическую возможность жить в неге и роскоши. Но поползновения к власти у роялистов основывались хотя бы на монархических традициях, освященных веками, в которых понятия достоинства и чести не были пустыми звуками, и это многое объясняет, если не оправдывает. Якобинцы же действуют, руководствуясь голым животным инстинктом, не имея за душой ничего, кроме лукавого умения играть словами. Это вечные туристы в большой политике.
Дело здесь даже не и Жозефе Фуше, хотя и в нем тоже. Он не щадил и ретивых якобинцев, пытавшихся заново разыграть крапленую карту революции, но при этом всегда помнил о том, что его карьера — революционного происхождения.
— Вы ведь голосовали за казнь Людовика? — язвительно спросил однажды император Наполеон I у своего министра полиции, явно намекая на его продажность.
— Да, — нисколько не смутившись, ответил Фуше. — И тем самым оказал первую услугу вашему величеству.
— Браво, Фуше! — захохотал император. Неверно, однако, считать, как это утверждает Тарле, что карьера Бонапарта тоже всеми корнями оттуда — из революционного безрыбья, когда каждый рак в князья пятился. Бонапарт прежде всего великий военный стратег, и его талант полководца проявил бы себя при любой власти. Ничего не значит, что именно якобинцы дали первый толчок его военной карьере. Имеет значение то, что они же стали особенно ненавистны Наполеону за их лживую идеологию с декоративными грезами равенства и свободы в «братских республиках», лишенных всяких национальных черт.
Такой идеологии и ее носителям не было и не могло быть места в наполеоновской абсолютной монархии.
В этом Тарле прав.
Стоит ли указывать ему на писательское нахальство, с каким он, советский историк, проводя в книге незримую параллель между Наполеоном и Сталиным, попутно увенчивает ее столь дерзким выводом о «нелепых грезах равенства и братства»? Наверно, не стоит. Это не его вывод. Это суть дела, о которой нечаянно проговорился Тарле и о которой догадаются очень немногие. А если у товарища Сталина возникнет вопрос, начнут задумываться и остальные. У товарища Сталина вопрос сейчас отнюдь не в этих грезах, которыми пока что подпитывается искусственный организм Интернационала. Вопрос в другом. Кто станет русским Фуше? Не русским — он подумал гак машинально. Русские не годятся на роль Фуше. И Маленков тут не подойдет. Верный карлик Ежон?.. Этот сам будет харкать кровью и других заставит. Женился на еврейке, чтобы прикрыть свой антисемитизм. Вот пусть на время он и заслонит собой фигуру будущего Фуше. Года на два, не более. Такое сочетание будет правильным.
Сталин посмотрел на часы и нажал кнопку вызова помощника. Возник Поскребышев. — Пусть заходит, — распорядился Хозяин, раскуривая трубку.
Трубка означала, что разговор будет долгим.
В кабинет неслышно вошел Лаврентий Берия.
Глава четвертая
ПАСЬЯНС ЖОЗЕФИНЫ
Над каретой первого консула зависло остывающее зимнее солнце. Меховые кивера конных гренадеров казались позолоченными. По улице Сан-Нике всадники конвоя двигались тесно. Много народу. На тротуар высыпали владельцы лавок и гарсоны из мгновенно опустевших кофеен. Белошвейки и служанки смешались с ранними проститутками. Шныряли карманники.
Грек-трактирщик выкатил бочонок вина и наливал всем желающим. Фланирующие с девицами бравые унтер-офицеры подкручивали усы и на всякий случай становились во фрунт: «Куда это он собрался, наш маленький капрал?..».
Девицы бросали гренадерам бумажные цветы и смеялись, когда букетики застревали в сбруе коней.
Радостные, возбужденные лица. Церемонные шляпы, порхающие платочки. «Вива!..»
Все дрянь.
Наполеон Бонапарт направлялся в оперу. Ажаны суетливо останавливали встречные фиакры. Улица Сан-Нике явно тесна для такого кортежа. Надо подумать о другом маршруте в Гранд Опера.
Читать дальше