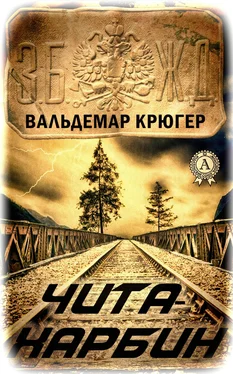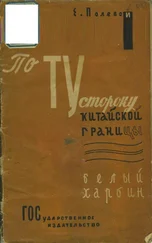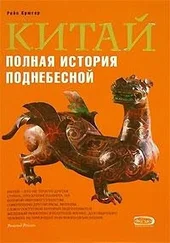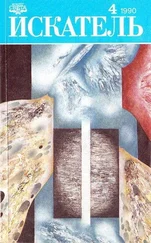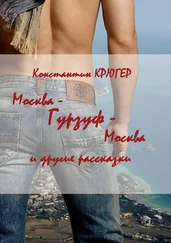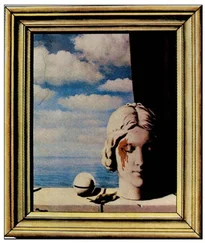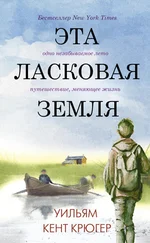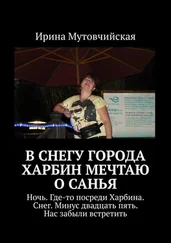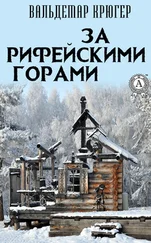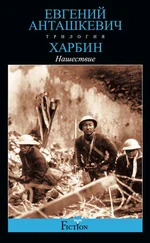Марк усмехнулся. Найон, не бровь, а в глаз попал дружище мой, и продолжил разговор на бурятском, который был ему знаком с того возраста, когда ходят пешком под стол.
– Хэр байнат [33] Хэр байнат ? – Как дела?
?
– Спасибо, бог по грехам терпит, – ответил уже по-русски расположенный пошутить Бурядай, поглядев при этом выразительно на серьгу в ухе Марка.
– Да да, – спрыгивая с коня, ответствовал тот, – бог, он все видит, да не скоро скажет, – после чего, ничего уже больше не говоря, подвел кобылицу к коновязи у юрты Бурядая, и со знанием дела привязал уздечку к средней бороздке коновязи- сэргэ.
Здесь необходимо небольшое пояснение. Для бурятов столб для коновязи ( сэргэ ) нес в себе особую символику. Таким образом хозяин показывал – это моя земля, это мои владения. В прежние времена сэргэ стоял у каждой юрты. Не зря старая бурятская пословица гласит « пока стоит сэргэ – жива семья », поэтому никому никогда не могло прийти голову разрушить его. И кроме того, с эргэ был не просто коновязь, которой столбили землевладения, что у бурятов при кочевом образе жизни играло второстепенную роль, он являлся олицетворением «Мирового дерева», «Древа Жизни», соединяющего три мира.
Столб- сэргэ имел три метки-бороздки. Верхняя бороздка указывала место привязывания скакунов небожителей, населяющих Верхний мир, средняя отводилась для простых смертных, нижняя – для лошадей богов Нижнего мира, откуда уже никому нет возврата.
Кроме того сэргэ , в форме каменных или деревянных столбов, устанавливались на бариса – местах, где делалось приношение духам- эжинам , покровителям того или иного места, будь то огромная гора, или же отдельная скала, относящиеся к Срединному миру (земле), одухотворенному как в целом, так и во всех его составных частях.
Вообще бурятская мифология очень богата на богов и духов, населяющих во множестве Верхний, Срединный и Нижний миры.
Согласно шаманистким представлениям бурятов на небе, в Верхнем мире, обитали божества-небожители – тэнгри , разделявшихся на два враждующих между собой лагеря – на «западных» добрых тэнгри , приносящих человеку счастье, и на злых, опасных для человека «восточных» тэнгри .
Главный тэнгри, носящий звучное имя – Вечное Синее Небо ( Хухэ Мунхэ тэнгри ), имеет сына ( Эссэгэ Малаа тэнгри ), являющегося главой добрых «западных» тэнгриев.
Эссэгэ Малаа тэнгри , величественный старец, который живет в прекрасном дворце и имеет множество слуг. Он добрый старейшина, особо не вмешивающийся в человеческую жизнь, выражающий волю Вечного Неба и определяющий судьбу людей.
«Восточные» тэнгрии, во главе с божеством, носящим имя Ата Улаан , жестоки и коварны. Именно они посылают на людей различные бедствия – эпидемии, голод засуху и другие напасти.
Жизнь тэнгриев похожа на жизнь влиятельных людей на земле. Они имеют жен, детей, властвуют над бесчисленными табунами лошадей и стадами скота. Зачастую тэнгрии олицетворяли различные атмосферные явления ( Будургу Сагаан тэнгри – божество снега, Хухэрдэй Мэргэн тэнгри – божество грома и молнии, Мэндэри тэнгри – божество града), а также различные проявления человеческой жизни ( Багатур тэнгри – божество силы, Ата Улаан тэнгри – покровитель коней) [34] Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции. Новосибирск, 1987.
.
Любопытно, что Ата Улан (огненно-красный тэнгри ), являющийся предводителем недобрых «восточных» тэнгрий, одновременно является и покровителем лошадей, так уважаемых и почитаемых бурятами и монголами. В этом есть какой-то особый, потаенный смысл, отвечающий представлениям о смысле, понимании жизни этих древних народов. Не случайно буддизм, проповедующий ненасилие, терпимость, идею непостоянства и недолговечности всего сущего, нашел в бескрайних степях Монголии и Забайкалья благодатную почву, постепенно вытеснив, точнее говоря слившись с шаманисткими, дуалистическими представлениями бурятов и монголов о окружающем их мире, где злые божества и духи занимают в повседневной жизни такое же важное место, как и их добрые контрагенты.
После той памятной встречи двух друзей, когда Марк подарил лошадь, миновал год, но как много изменилось в жизни Бурядая. Казалось, достиг он почти всего, о чем он мечтал в юношеские годы, снося безропотно голод, холод и другие житейские невзгоды. Мечтал он о хорошей жизни, в тогдашних его представлениях о счастье – чтобы была у него красавица-жена, ел он каждый день жирное баранье мясо, запивая его искрящимся кумысом.
Читать дальше