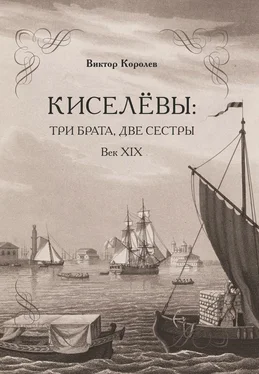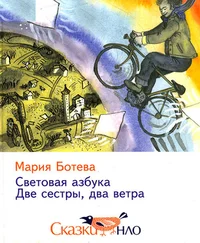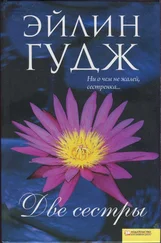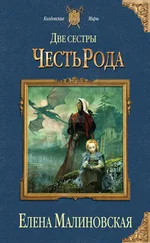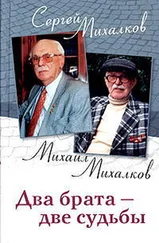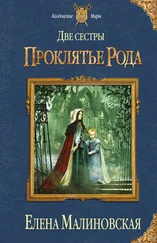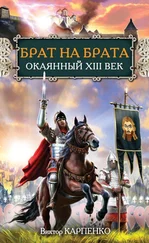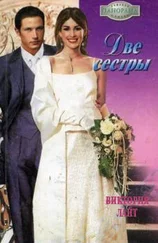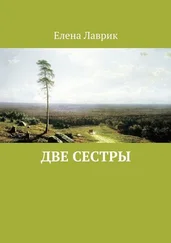Сам Виктор Королев рассуждает об этом так: «Пикуль говорил, что изучать по художественным произведениям историю нельзя – но я ни одного факта там не извратил, не приврал… Старался, чтобы было интересно – тем более что про них, пятерых Киселёвых, мало кто знает. А они достойны, они очень много сделали для России…» Читаешь книгу, и возникает как раз это ощущение – предельной искренности автора, чувствуешь его желание вернуть память о достойных сынах Отечества.
Наверное, многие из нас в глубине душе задают себе вопрос: «А зачем писать снова и снова о таких далеких от нас днях?» Автор отвечает на него, опять же цитируя Валентина Пикуля: «Нельзя быть патриотом сегодняшнего дня, не опираясь при этом на богатейшее наследие наших предков. Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, тверже характером и умнее разумом. Культура народа всегда зависима от того, насколько народ ценит и знает свое прошлое».
Сложно что-то к этому добавить. В наше непростое время требуется предельно честное осознание истории России, много раз переписанной в угоду политическим веяниям. Как тут не вспомнить и полные горечи слова В. Королева об убийстве генерала Милорадовича: «Подлый убийца губернатора Санкт-Петербурга считается у нас почему-то героем, а ему перед казнью декабристы даже руки не подали».
Историям, описанным в романе, веришь. Его героям симпатизируешь и сострадаешь, их запоминаешь… «Не знаю, как найти слова, достойные твоей книги о Киселёвых… Она перевернула всё в душе. Это просится на экран, прямо представляется большое кино, неужели никто не увидел?! Главное, конечно, чтобы взялся режиссёр, не менее талантливый, чем автор. По силе и пронзительности – у меня давно такого не было. Твои Киселёвы – мои герои!» (Нина Соколова, инженер-конструктор).
Ну что ж, всё сказанное верно! Возможно, когда-нибудь мы станем свидетелями экранного перевоплощения героев этого романа. А пока прочтите книгу – не пожалеете.
Марина ЗЕЙТЦ,
член Союза писателей России
Часть I
Павел Дмитриевич Киселёв
Старший брат
Дмитрий Киселёв и Прасковья Урусова
Все Киселёвы – столбовые дворяне. Ветви генеалогического древа их раскидисты и толсты, словно у многотысячелетней оливы, что на Крите сегодня растёт. По Готскому альманаху и Общему гербовнику российскому, род Киселёвых насчитывает тринадцать с лишним веков. Знать, реальная это знать была. Но нас интересует лишь кусочек – век девятнадцатый, да и то не полностью. Из всех родовитых Киселёвых речь ниже поведём о трёх единокровных братьях, двух их сёстрах и о тех, кто окружал эту пятёрку, – по годам и дням, по именам и связям, по добрым поступкам и бесчестным деяниям.
Однако начать нам всё равно придётся издалека, с родителей пятерых Киселёвых, с века ХVIII-го.
«В тот год осенняя погода стояла долго на дворе… Снег выпал только в январе». Не дождавшись его, утром в предпраздненство Богоявления, государыня Екатерина долго молилась и наконец, похмелившись наливочкой, приказала трогаться. Вояж предстоял как никогда долгий, к полуострову Таврическому, где её «голубчик Гришаня» уже заждался, строя недолговечные деревни и вечные крепости. Гвардейцы-молодцы, лошадей взяв под уздцы, повели из Царского Села длиннющую кавалькаду. На огромную карету императрицы дивились все. Десять четвёрок в одной упряжке – никогда такого не видано! И сотни, сотни других карет – это тебе не рыбный обоз… На первой же остановке всё население уездного города Луга высыпало встречать государыню-императрицу. Купцы крестились истово, гремя золотыми, в палец, цепями. Бабы кланялись матушке в пояс, мечтательно вздыхая: «Кабы я была царицей…» Мужики – купцам не ровня, чернь и дворня – по-своему тосковали по матушке, крича что-то нечленораздельное и бросая в воздух картузы и шапки. Народ не безмолвствовал, он ликовал искренне, восторженно и тупо…
Сразу после новогоднего праздника, 3 генваря 1787-го – как говорится, в тот же год и в тот же час – молодой московский щёголь Дмитрий Киселёв надумал жениться. Ему шёл уже двадцать шестой год, официально он являлся сыном заместителя (по старому штилю – товарища) генерал-губернатора Первопрестольной. Матери своей он никогда не знал, а отца помнил больше по портретам – строгий старик с огромными седыми бакенбардами словно предупреждал его: «Смотри, сынок, коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»
Двадцать лет как родителя нет. «Спасибо, батюшка, за доброту и ласку, нажуировался всласть, пора и в оба глядеть!» Примерно так думал молодой повеса, летя на тройке по Тверской. Он, единственный и далеко не бедный наследник, по-нынешнему «мажорчик», ехал обручаться.
Читать дальше