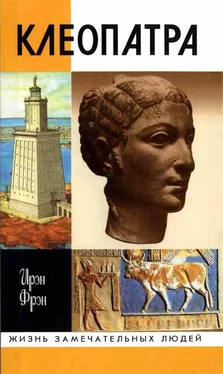Александрийцы, услышав этот гвалт, кинулись к своим окнам. Но на улицах не было видно ни одного фонаря, ни одного факела, они оставались пустыми, если не считать этой незримой веселящейся толпы. Полная тьма, и только эти бесчисленные голоса, которые горланят во всю глотку гимн Свободному Богу, распирающий несуществующие грудные клетки; и еще, в ночи, эта призрачная павана, непрерывно и настойчиво исполняемая сотнями флейт.
Люди заметили и другую, еще большую странность: вместо того чтобы вскоре остановиться и затем, как обычно, повернуть к центру Александрии, невидимая ликующая процессия двинулась к городским укреплениям, к воротам Солнца, к занесенным песком пригородам, к лагерю Октавиана. По мере того как она удалялась, гвалт становился все более невыносимым. В момент, когда она проходила через ворота, впору было затыкать себе уши. И тут все разом смолкло.
Смысл знамения совершенно ясен; она, Клеопатра, могла бы и раньше его истолковать: вчера Бог-Освободитель покинул город; и теперь, когда небо одержало победу над силами земли, царица осталась на сцене одна, чтобы попрощаться с Александрией, которую теряла.
ПРОЩАЯСЬ С АЛЕКСАНДРИЕЙ, КОТОРУЮ ТЕРЯЕШЬ…
(2—29 августа 30 г. до н. э.)
Впереди ее ждет небытие — но и пьеса, которую надо доиграть до конца.
Значит, несмотря на гнетущую печаль (которую даже не выразить словами, ибо она безмерна, как жизнь, велика, как море), она должна использовать все ресурсы своего воображения. Нить трагедии выскользнула у нее из рук, и необходимо любой ценой найти эту нить, завязать новый узел. И уйти со сцены так, чтобы вся Вселенная запомнила ее навсегда.
Но она — пленница дворца, ее сокровища потеряны, Октавиан одержал абсолютную победу. Узнав о смерти своего соперника, он удалился к себе в палатку, пролил для вида притворные слезы; а когда понял, что не сумел никого обмануть, его лицо приняло обычное лицемерное выражение, он собрал всех своих друзей и прочитал им последние письма, которые присылал ему Антоний. Послушайте, насколько он был вульгарен и высокомерен, будто говорил Октавиан, тогда как я писал ему только справедливые и благожелательные вещи.
Потом он решил войти в Золотой город. Он предпочел, чтобы в этот важнейший момент его сопровождали не вооруженные когорты легионеров, а один-единственный друг, некий грек, человек, родившийся в Александрии. Его звали Арий, он был профессиональным философом и уже много лет входил в свиту Октавиана. Октавиан взял его с собой, и так, неспешно беседуя, держась за руки, они прошлись по улицам Александрии: как будто император хотел показать горожанам, что завоевал их не как других, силою оружия, но обратил против них их собственную силу, силу духа; и что именно поэтому его победа абсолютна. Так, в компании Ария, он дошел до гимнасия. И там, в том самом месте, где четыре года назад состоялась церемония «Дарений», он потребовал, чтобы для него, как когда-то для Антония и Клеопатры, воздвигли большой помост.
Множество александрийцев, раздираемых противоречивыми чувствами — страхом и желанием поскорее со всем этим покончить, — быстро собрались и выполнили его требование; и когда римлянин взгромоздился на помост, они в едином порыве простерлись перед ним ниц.
Октавиан, по своей привычке, обвел их холодным взглядом; потом, все с тем же высокомерным видом, сказал, что прощает их. Ради памяти Александра, уточнил он; и еще потому, что их город велик и красив. И, наконец, потому, что он хочет угодить своему другу, который здесь родился.
Он не мог бы более ясно выразить горожанам свое презрение. Затем он покинул гимнасий, вернулся к своим солдатам и отдал приказ умертвить Антулла, старшего сына Антония. Юноша попытался найти убежище возле статуи Цезаря, цеплялся за нее, взывал к манам Божественного Юлия. Октавиан ничего не пожелал слушать, и Антуллу тут же отрубили голову. Дальше император занялся лихорадочными поисками Цезариона. С этой целью он стал подкупать различных людей из дворца, послал по следам молодого человека самых опытных шпионов.
Другие дети, трое маленьких метисов, как кажется, его не интересовали; он оставил их на попечении воспитателей и пока ничего не менял в их образе жизни. Помимо Цезариона, чью голову он тоже желал непременно получить, его волновала только участь царицы, но по прямо противоположной причине: он боялся, что еще до триумфа, во время которого собирался провести ее по улицам Рима, она вновь попытается лишить себя жизни.
Читать дальше