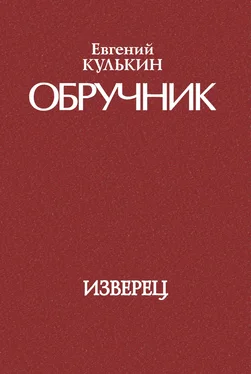– Мужчины всегда найдут себе причину, чтобы подставить лоб под пулю, – тем временем сказала Кэтэ. – Вон Пушкина тоже из-за женщины извели.
– Там другое дело, – не согласился пришелец. – Говорят, интриги большую роль сыграли.
– Интриги… – проворчала мать. – С жиру все это. Если бы настоящая работа у каждого была, то рад месту был бы. А то так и ищут приключений на свою биографию.
Сосо остро глянул на мать. Именно так говорит Яков Эгнаташвили. И вообще многое она перенимает у этих евреев. Особенно у Ханы. Того гляди, и картавить начнет, как та, или зельево пахнуть чесноком.
Сейчас же Сосо не сводил взора с матери. Она так и сидела с завлажненными глазами, устремленная в какую-то свою думу. И он хотел угадать, о чем же именно она теперь размышляет. Может, о непутевости того же Пушкина, о которой столько всего понаговорено, или о судьбе Лермонтова, сжегшего себя ни за что ни про что из-за неосторожного, но ставшего роковым слова.
Сосо давно уже заметил, что мать его не так проста, как о ней говорят и судят некоторые из соседей. Вот уж у кого у кого, а у нее наверняка душа работает и картины, о которых говорил Странник, возникают одна за другой. Вон как ярчеют и притухают ее глаза, когда она смотрит в одну точку.
И когда Сосо думал, что речь об отце за их столом больше не возобновится, Странник неожиданно сказал:
– Ну и воздали они ему там. Две недели синяки не отухали.
– Кто и где? – быстро спросила мать.
– Армяне. На заводе Адельханова.
За столом наступило молчание, и вдруг его неожиданно разрубил вопрос пришельца, с которым он обратился к Сосо:
– Ты бы постоял за своего отца?
Мать глянула на Сосо остро, словно сбрила ответ раньше, чем он родился, потому тот произнес что-то далеко неопределенно, на что гость сказал:
– Он так и говорил – сын ему совсем чужой.
У Сосо взбугрились желваки. И ежели бы он считал себя за столом главным, то тут же вытурил бы из дома Странника. Но мать посушела взором и произнесла довольно жестко:
– Господь ему судья и защитник. Раз он распорядился, чтобы так произошло, стало быть, тому и быть.
И перекрестилась.
– Удивительная вы женщина, – сказал пришелец, неожиданно начав величать ее на «вы».
Сосо никогда не думал, что его может увлечь учеба. Все его друзья относились к занятиям, можно сказать, не очень серьезно.
Правда, Петр Капанадзе особо это не выпячивал. А другие даже говаривали:
– Зря мы время теряем, вот пошли бы по коммерческой части.
Сосо же рассуждал иначе:
– Я знаю, мать спит и видит меня священником. И, может, в конечном счете, я им и стану. Но ежели жизнь моя как-то переменится, я могу твердо сказать, что в духовном училище дурака не валял и ухватил то, что только мог.
Особенно его интересовало в ту пору все, что когда-то нарисовали о житие святых древние.
– Это все пришло не просто так, – говорил Беляев. – Им были видения. А так откуда бы были известны лики святых?
Беляев хорошо рисовал и потому, возвернувшись с поломничества на Кипр, привез из города Какопетрия рисунок фрески, изображающей «Воскрешение Лазаря».
Кто такой был Лазарь, Сосо уже знал. Ведал он, и как тот умер, был запеленут в белые одежды, положен в гроб. Но Спаситель после четырех дней пребывания Лазаря мертвым решил его воскресить. И на фреске как раз изображен тот самый миг, когда на лицах всех, что там находится, возникло столько недоумения и восторга, что невольно пробегают мурашки по телу.
И еще одно нравилось Сосо. Это пение в церковном хоре. Когда собственного голоса не слышишь. Кажется, просто продолжается твое дыхание и мелодия сама льется и по ней ладьями, вернее, стругами плывут те единственные слова, от которых сердце делается чище, а душа милосердней.
И еще.
Беляев надоумил его не просто читать Псалтырь без участия какой-то системы. А выбрать то, что необходимо, скажем, в обиходе. Например, если душу ест подавленность, то нужно отыскать тридцать третий псалом и там прочитать, лучше всего наедине и в полном покое, все, что там написано.
Нынче, как показалось Сосо, он оказался в беде.
Хотя, коли пристальнее все разобрать, беды-то большой вроде бы не случилось. Но утром к ним зашел один из братовьев Наибовых Мешкур и сказал:
– Отец твой Бесо мне должен остался.
Сосо передернул плечами.
– А при чем тут я? – вопросил. – Отец не маленький, чтобы за него отвечали посторонние.
Мешкур преломил бровь и так держал ее до той поры, пока дым, который он выпустил из чубука, не просквозил мимо глаза, не вознесясь к потолку. Табак у него был сладимо-горьковат.
Читать дальше