– Какой же ты после этого, Ефим, партизан? С оглядкой на господа бога свободу не завоюешь. Бог – он, как и попы, против свободы для бедных. Он за старые порядки стоит.
– Брось ты, Семиколенко, трепаться! – возмутился Полуэктов. – И как у тебя язык поворачивается такие слова говорить? Бог, он молчит, а потом возьмет да и все сразу припомнит.
На это Семиколенко с дерзким смешком ответил:
– Ничего не припомнит. Наказать ему меня никак невозможно.
– Это почему же?
– А потому, что его нет и сроду не было. Его на нашу беду попы да буржуи выдумали. Тысячи лет пугали богом нас, грешных, чтобы на нашей шее ездить.
– Ну, пошел молоть! – огорченно махнул рукой, раздувая усы, Полуэктов. – Слушать тебя тошно, безбожник ты этакий.
– Не любо, так не слушай. Никто тебя силком не принуждает. А только я голову на отрез дам, что бога нет. И никто мне не докажет, что я ошибаюсь.
Впервые в жизни Ганька видел человека, который не признавал бога и во всеуслышание заявлял об этом. От такого кощунства у него мороз пробежал по коже. С испугом и удивлением глядя на рыжего самоуверенного приискателя, он жалел его, как заведомо обрекающего себя на вечные муки в аду. Зажмурясь и содрогаясь, ждал он, что грянет гром и карающая молния испепелит несчастного безбожника. Но Семиколенко стоял как ни в чем не бывало и посмеивался, не испытывая ни страха, ни угрызения совести.
С тех пор Ганька с острым любопытством приглядывался к Семиколенко, прислушивался к его словам. Непонятным и недобрым человеком казался ему добродушный и доброжелательный к людям здоровяк приискатель.
И когда Семиколенко поправился и уезжал в свой полк, Ганька даже не захотел к нему подойти и проститься.
Наступил август с обильными росами, с вечерними и утренними туманами. В тайге созревали ягоды, под каждым деревом вылезали из прошлогодней листвы грибы.
Ганьку и Гошку Пляскина, парня семнадцати лет, стали каждый день посылать за ягодами на кисели и морсы. Ребята не прочь были лазать по горам и бродить в тайге, но предпочитали разгуливать с ружьями, а не с берестяными лукошками в руках. Они спали и видели, что подстрелят дикую свинью или красавца изюбра, чей рев не раз слышали по ночам недалеко от палаток. Сбор же ягод оба считали не мужским, а бабьим делом. От этого собирались при первом удобном случае сбежать в боевые партизанские части, оставив допекающему их приказами и поручениями завхозу язвительную записку. Но случая все не было, и им поневоле приходилось подчиняться строгому и требовательному завхозу, бывшему когда-то казачьим вахмистром.
В средине августа в госпиталь пробрался с русской стороны вьючный транспорт с крупчаткой, сахаром и медикаментами. Его прислал из Нерчинского завода Василий Андреевич Улыбин. С транспортом приехала молодая хорошенькая фельдшерица Антонина Степановна Олекминская. Гошка Пляскин влюбился в нее с первого же взгляда и перестал заговаривать о бегстве из госпиталя.
Взяв с Ганьки слово никому не выдавать его секрета, Гошка рассказал о своем увлечении. У него появилась неодолимая потребность делиться с приятелем еще не изведанными переживаниями, которые вызвало в нем появление фельдшерицы. В ней ему нравилось все. Он засыпал Ганьку красочными сравнениями, едва речь заходила о глазах и косах, о голосе и походке ничего не подозревавшей Антонины Степановны. Глаза ее Гошка мог мимоходом сравнить со спелой ягодой голубицей, тронутой нежным голубым налетом, а толстую светло-русую косу – с веткой золотого под осень папоротника. Ганьку сладко разжигали и тревожили Гошкины излияния. По ночам ему начали сниться девушки с горячим и ласковым шепотом, с улыбками, от которых потом и наяву бросало его в жар и трепет.
Антонина Степановна не обращала на Гошку никакого внимания. У нее было достаточно взрослых поклонников, не имевших, впрочем, никакого успеха. Но Гошка оказался чудовищно ревнивым. Он ревновал ее даже к доктору Карандаеву. При каждой встрече с ней моментально краснел, обливался потом, терял способность соображать и разговаривать. Ганька сильно страдал за него. Он не понимал сердечных мук приятеля и, желая посмеяться над ним, частенько напевал ему:
Позади он слышит ропот:
Нас на бабу променял.
Поступал он так потому, что любил Гошку придирчиво и ревниво, гордился дружбой с ним. Все ему казалось необыкновенным в смуглом и курчавом, как молодой барашек, Гошке.
Часто, сам не сознавая того, он подражал ему, старался во всем походить на него, хотя и понимал, что с Гошкой тягаться трудно.
Читать дальше





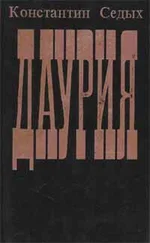
![Константин Седов - Клоуны водного цирка [СИ]](/books/408247/konstantin-sedov-klouny-vodnogo-cirka-si-thumb.webp)

![Константин Седов - Лес проснулся [СИ. Оптимизированная обложка]](/books/410923/konstantin-sedov-les-prosnulsya-si-optimizirovann-thumb.webp)

