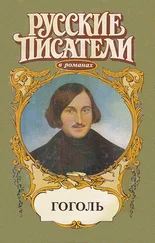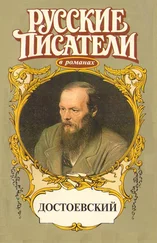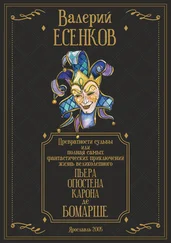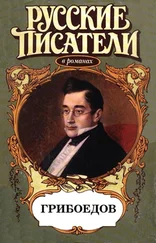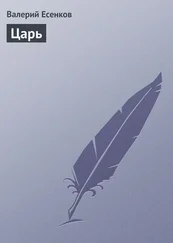Его истощила эта борьба. Его жизнь превратилась в мученье. Ему необходимо было хоть какой-нибудь выход найти, однако едва лишь удавалось нащупать подходящую дверь, как только он жадно хватался за медную ручку ее, чтобы с силой потянуть на себя, как обнаруживал на той стороне беззубую жадно ждущую смерть.
И жить он с этим адом не мог, и не хотел умереть.
Он вдруг встал, точно натолкнулся на стену, стиснул ладонями смятенную голову и охриплым болезненным голосом страдальчески
Вымолвил то, что выносил, что испытал на себе:
– Писатель современный, писатель комический, писатель испорченных нравов должен от родины находиться вдали, ибо славы пророку в отечестве нет.
Стены комнаты отступили и смазались. Вместо стен на него наползали знакомые тени. В растревоженной памяти всплывали горькие речи. В уши так и бились слова:
– Отдай мне!
– Вы измените правде, и ваше искусство погибнет!
– Мозги набекрень!
– Твои знакомые меня встречали вопросами, правда ли что сошел ты с ума, вот они как о тебе!
И все эти речи надо было отшвырнуть решительно прочь, и тогда можно было бы снова идти своей тесной, своей неприютной, непроторенной тропой и с горячей любовью попытаться высказать людям всё то, что в своей душе выносил за эти десять тяжелых страдальческих лет и не думать о том, каких ещё гадостей, браней, паскудств накричат и нашепчут ему, вызвавши на пристрастный, неправедный суд не поэму его, а его самого, беззащитного автора, однако ж он с тревожным упорством всё искал и искал, что было правдой и в этих, может быть, слишком пылких, слишком поспешных, может быть, и облыжных речах, потому что всюду правда была, и по этой причине не способен он был этих глумливых речей отшвырнуть, не в силах был улыбнуться победно, хотя победил, и лишь еще больше понурился весь, и беспомощные глаза печально глядели перед собой.
В самом деле, какое право имел он так высоко апомышлять о себе? Разве они – не та же гордыня? Какой он в самом деле пророк? Ему ли браться воспитывать многих, когда до сей поры не воспитал чередом и себя самого? На что же, на что же решиться ему?
Скорбно сжав рот, подергивая нижними веками, Николай Васильевич бесшумно двинулся дальше, точно скользила по комнате чья-то неуловимая тень.
Разумеется, очень и очень о многом знал он получше других, видел пристальней, видел верней, не шутя понимал и глубже, пронзительней охватывал мыслью, убедиться в истине этого мнения слишком пришлось уже множество раз, однако это ли знание – главнейшее свойство пророков и тех, кто призван громкое слово сказать?
Нет, помилуйте, пророки ему представлялись иными. Всех смертных своих современников пророки превосходили не грозной силой ума и, уж конечно, не многим познаньем, иные не ведали почти ничего из того, что знал наизусть заурядный университетский профессор, замучивший не одно поколенье студентов, не сумевших ничего унести от него, тогда, как неодолимой, всех и вся заражающей силой пророков была несокрушимая вера в свою правоту, была честность кристальная, была незапятнанная ничем чистота. Истины не искали они. Они без сомнений, без колебаний знали её. Истина сама собой открывалась твердой вере и святости, им одним, и, может быть помимо ума.
А он-то? Лучше ли, непорочней ли, чище ли многих беспутных, осквернившихся своих современников? Разве не добывал он истины в муках? Разве сама собой представала она изнуренному в поисках, доходящему до отчаянья сердцу?
Глухо и сумрачно стало на исхудалом лице, и обмякли беспомощно острые плечи.
Однако Господь послал же ему этот истинный дар насквозь проникать чужие, для иных и прочих закрытые наглухо души?
Это правда, несомненная правда, Господь послал ему этот истинный дар, и по этой причине свою душу он тоже видел навылет, и по этой причине никак не мог увидеть в себе иных черт несгибаемого пророка, даже без сомнения зная, что он в самом деле пророк.
И выходило по смыслу терпеливых раздумий и горьких сомнений, что справедливы те грозные речи, и не могло правдой не быть, что пишет он сущий вздор, способный забавлять и смешить, не западая, как гвоздь, в самодовольные души, а после этого, что ж ему остается на свете?
Он все колебался, он все искал, он все последней правды не в силах был отыскать о себе, а нужнее всего была нужна ему эта последняя правда.
Ну, положим, он издавна обнаружил в себе, что получил много, даже слишком много от Бога, однако эта высшая милость разве предоставляла право на самомнение, на гордыню или на то, чтобы взять от жизни хотя бы на песчинку побольше других? Решительно нет, высшая милость особенных прав не дает! Кому много дано, с того много и спросится, и он много и спрашивал сам, прежде, чем спросят с него, добиваясь понять, много ли лучше других, благородней и чище, возвышенней духом, и, придирчиво, пристально глядя в себя и так же придирчиво, приидругих, если не наихудший из всех, и потому всё, что ни выпало на долю его, он должен терпеливо сносить как должное и справедливое наказание. Всё!
Читать дальше