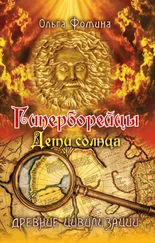Тот день мы провели вместе. Гуляли по саду. Набрели на яблоню, которая продолжала клонить к земле тяжелые от яблок ветки.
– Это дикие яблоки, – сказала я, – удивительно, что они до сих пор висят.
Аня сорвала одно и откусила. Сок брызнул в разные стороны.
– Сладкое! – сказала она, – но кожа жестковата.
Так вот какую тайну скрывала от нас эта яблоня! Она вовсе не дикая, а просто поздняя. Значит каждый год яблоки созревали в конце октября, когда нас на даче уже не было. Мы подобрали несколько яблок и принесли домой. Я разложила нарезанные ломтики на еще не остывшую печку. Дольки зашипели, но поворчав, повиновались судьбе, смолкли, сжались, превращаясь в коричневые лепестки. Пока я возилась с яблоками, Аня подошла к портрету над пианино. Рассматривая меня, и маму, и Липочку, она сказала:
– У меня тоже есть мамин портрет. Он висит в нашей гостиной в Петрограде. Я маму только по нему и знаю. Она умерла, когда я была еще совсем маленькой. В родах. Брат тоже умер.
– Ты здесь совсем одна?
– Нет, у нас есть дача в Териоках, там сейчас живет моя мачеха.
– А отец?
– Пока в Петрограде. Мы ждем его, чтобы поехать в Европу.
– Ты не ладишь с мачехой?
– Она меня не любит. Нет, она меня не обижает, даже по-своему обо мне заботится, но она меня не любит. А все потому что папа души во мне не чает. Я напоминаю ему маму. Мачеха ревнует, и не позволяет проводить нам много времени вместе.
После ухода Ани внезапно почувствовала облегчение. Впервые я выговорилась не на бумаге, а живому человеку, да и к тому же понимающему. Между нами симпатия, и я уже не чувствую себя такой одинокой, как раньше.
* * *
Я могла уже подолгу гулять, но посещать гимназию доктор Белинг пока не разрешал. Зато Галактион Федорович позволил пользоваться своей библиотекой. Набрав у него книг, я возвращалась берегом залива, горизонт которого был сокрыт тяжелыми тучами. Ах, мама! Знаю, что ты думаешь обо мне ежеминутно, но что ты думаешь? Быть может, беспокоишься за папу, за его сердце, которое уже перестало биться. Вечера я коротала за чтением, в один из них ко мне заглянула Ирина Герасимовна. Она изменилась, похорошела, была одета в красивый соболий палантин. На пол поставила узел.
– Я, наконец, получила визу, – объявила она с порога. – Уезжаю в Европу. Это хочу оставить вам. И забудьте то, что я вам рассказала, вам не надо было этого знать.
Когда Ирина Герасимовна ушла, я развернула узел. В нем оказалось теплое пальто с меховым воротником. Я надела пальто и подошла к зеркалу. Пальто дамского фасона, причем вычурного, с отороченным мехом вырезом, как любила одеваться Ирина Герасимовна. Носить такое гимназистке неприлично. Но других теплых вещей у меня нет. Когда первый раз вышла в нем на улицу, то очень стеснялась, однако прохожие не обратили на меня никакого внимания.
* * *
Окрепнув, я смогла самостоятельно отоваривать продуктовые карточки. Один купон имел особый штемпель, предоставлявший мне, как больной, право на масло. Продовольственный кризис в Финляндии все обострялся, а беженцев становилось все больше. Все больше становилось их и в самих Териоках. Я видела женщину, несшую на руках двух довольно больших детей. Сначала я не поняла, зачем она несет таких тяжелых детей, но потом заметила, что они босые. Это, несомненно, были петроградские беженцы, у всех наших дачников обувь есть.
Анна еще не раз ко мне приходила, а однажды она появилась вместе с Ваней. Я показывала им наш сад, постройки, мамины дивные оранжереи, сцену, на который мы давали спектакли. Ваня удивлялся чудаковатости нашего быта, особенно его поразило «воронье гнездо». Услыхав, для чего его строил папа, Ваня не нашелся, что сказать. А потом мы пили чай. Я заварила яблочные дольки в майоликовом чайнике, подаренном Юленькой Гобержицкой, и рассказывала почти чудесную историю появления нашей дачи.
Ваня предложил в оранжереях выращивать овощи, а в саду разбить небольшой огородик – в некоторых частях сада почва для этого самая подходящая. Еще он сказал, что сможет разобрать сцену и «воронье гнездо» на дрова. Мне стало очень жаль нашу старую сцену, но видимо такова ее судьба. Доски пола все сгнили, а чинить их некому, нечем и незачем.
Через неделю Ваня снова пришел ко мне, и взялся за театр. Наш добрый старый театр, в котором мы пережили столько счастливых минут, приговорен к казни! В руках у Вани большой топор. Взмах и стон. Взмах и стон. Кажется, что театр плачет. И я в душе тоже плакала: «Прости, что не уберегла тебя. Быть может, когда-нибудь мы построим в память о тебе новый театр, а пока… Пока я лишь оставленный родителями ребенок, которому очень холодно».
Читать дальше