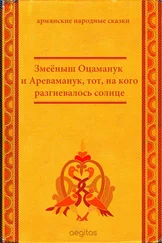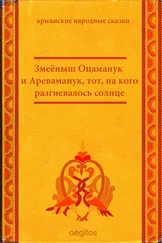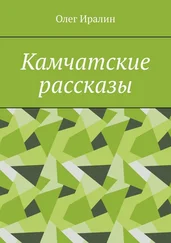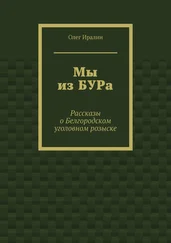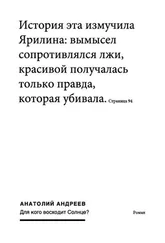И вот теперь, перед лицом опасности, защитить кочевья стало некому. Ханы собрались снова. Они долго совещались, решая, как вернуть воинов. Да, здесь остались семьи тех, кто ушёл с ордами гордых воителей, но сейчас там, за каменным хребтом, они находились в действующем войске, а по законам войны покидать его считалось бесчестьем. К тому же сейчас требовалась помощь ханов, признанных всем народом, способных возглавить объединённое кыпчакское войско, а таковых, кроме Тугоркана и Боняка, просто не было. К исходу дня на Совет вызвали воина, недавно сбежавшего из русского плена. Он вошёл в просторную юрту и молча поклонился восседающим на хорезмийских коврах ханам.
– Это Кубар, предводитель коша тугаринской орды! – представил его один из ханов.
Кубар успел уже позабыть о своём относительно коротком и совсем не обременительном плене. Оправившись от ран, он, по обоюдной договорённости с Белояром, покинул его родню, как только стаял снег. Но, вернувшись в родное кочевье, кошевой уже не застал его в прежнем виде. Его встретило холодное молчание вдов и упрёки стариков. «Зачем, выручая орду своей атакой, не уберёг ты воинов своих вежей? – говорили они, не сводя строгих глаз. – Теперь нет нам того уважения, что было в минувшее время на общих сходах, и на летовку скота достаются нам худшие пастбища. Ведь нет больше многих батыров, что стояли за честь рода! Полегли они в русской земле, а теперь спасённые ими не бросят и обглоданной кости, презирая нас за беспомощность!» Но помимо упрёков тяготило и то, что дальний родич его, выбранный на Круге новым кошевым, не только не торопился уступать своё место негаданно вернувшемуся предшественнику, но более того – не хотел видеть его в коше, подозревая в нём соперника своей власти. Кубар не стал осуждать ни его, ни так быстро охладевших к нему сородичей. На второй же день он оседлал коня и подался в другую орду, ища счастья в ней. Его, помня как хорошего воина, приняли, и, хотя никакой командной должности не предоставили, новоявленному изгою вполне хватило и этого. Сейчас, пройдя к самому очагу, он в молчании остановился, давая возможность ханам рассмотреть себя в свете жаркого пламени.
Все молчали, ожидая, что теперь скажет хотя и не самый старший по возрасту, но влиятельнейший среди них хан Сырчан. Тот, поглаживая редкую бородку, тронутую сединой, некоторое время рассматривал вошедшего.
– Подойди ближе, – наконец произнёс он негромко. – Ты знаешь, какая опасность нависла над Степью. Мы решили доверить тебе судьбу нашего народа. Как только на краю неба пробудится заря, скачи во весь опор к Железным воротам, за самый Каменный пояс. Найди там наших ханов и расскажи, что кыпчаки взывают к ним, просят забыть обиды и заслонить кочевья от русского меча! Ведь знают они, что, кроме юнцов да нас, стариков, заступать пути русичам некому! Передай славному Тугоркану, что только в нём наша последняя надежда…
Сырчан приходился родным братом хану Атраку, но все заметили, что он не обмолвился и словом о нём. Он лучше других знал характер своего родича и не питал особых надежд в отношении него, зато широта души Тугоркана была известна всей Степи. Люди верили, что этот горячий воин, неотступно следующий законам степи и не прощающий её обиды, не оставит в беде свой народ.
Выслушав приказ, Кубар поклонился и вышел, а наутро, едва забрезжил робкий свет первых лучей, он поскакал им навстречу, спеша доставить такую важную, сколь и недобрую весть.
Тем временем в дальней, цветущей за высокими горами земле, на защиту грузин встал весь цвет половецкого воинства. Взошедший на престол Давид, стараясь отделаться от владевшего Грузией, но весьма ослабленного в распрях султаната, возмутил свой народ на борьбу. Сельджуки, и без того измотанные внутренними дрязгами, ко всему прочему вынуждены были отвлечься на крестоносцев, что по призыву Папы хлынули в их владения, стремясь к наживе под расшитыми крестом знамёнами. Но, против ожиданий грузин, султанат нашёл в себе силы ответить на атаки посылаемых грузинским царём отрядов. Сельджуки, с ходу разбив войско царя Давида наголову, теперь едва сдерживались его остатками, вовремя подкреплёнными ордой подоспевшего Атрака. По сути, теперь вся мощь оставшихся под рукой Давида армий заключалась в половецких саблях его тестя, но и их было явно недостаточно. Мусульмане, превосходя численностью, загнали утративших стойкость грузин в горы и вынудили отступить следом половцев. Овладев предгорьями, они приостановили натиск, ожидая подкреплений для успешных действий в пересечённой местности, прекрасно осознавая, что для войны в ней потребуется больше сил. А пока, прекратив активные действия, сельджуки обратили свои взоры на беззащитное население. Кровь полилась рекой. Насилиям и грабежам не было предела, и укрывшимися в горах овладело уныние. Поползли слухи, что жестокие воины наполняют кровью убитых целые бассейны брошенных знатью дворцов, и их предводители купаются в них, каждый раз требуя свежей. Давид знал, что это всего лишь плоды воображения испуганных насмерть людей, но эти слухи подтверждали плачевное состояние остатков его воинства. И вот, когда с каждым днём участились случаи дезертирства, когда его азнауры готовы были увести свои утратившие воинский дух отряды и оставить его наедине с половцами тестя, неожиданно пришла помощь. Тридцать тысяч степняков, разметав отряды прикрытия, очистили предгорья от сельджукской конницы и заняли боевые порядки, готовясь к продолжению атаки. К ним поспешили половцы Атрака, а вслед им и воспрянувшие духом грузины. Давид, вне себя от счастья, то и дело возносил хвалу Богу и пришедшим на выручку ханам, не скупясь в размере богатств, обещанных после победы. Но пока князь, его приближённые и ханы совещались, вырабатывая дальнейшую тактику, с равнины поступили сведения о прибытии к сельджукам свежих сил. Теперь, по докладам грузинских лазутчиков, мусульман стало триста тысяч против сорока пяти тысяч половцев, единственно боеспособных из всех воинов под рукой царя Давида.
Читать дальше