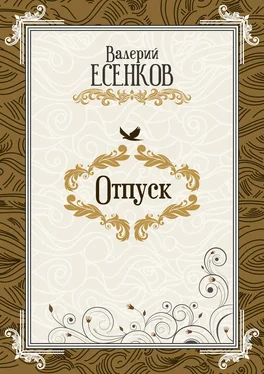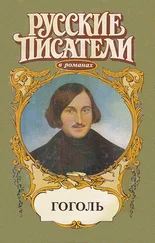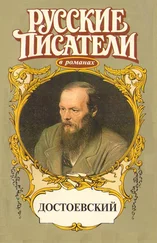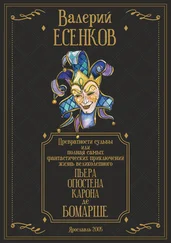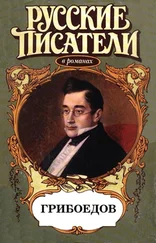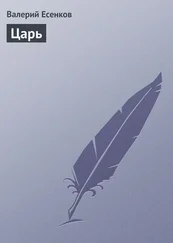Это Пушкин, вдохнув свое мужество, его вдохновил. Он добровольно выбрал крест канцелярской работы, крест неприметного, бесславного служебного долга, на время этого самого хладного сна, и каждый вечер, воротившись из департамента, настороженно, с волнением ждал, когда же глагол откроется в нем и прольется божественными стихами.
И дождался в положенный срок. Душа встрепенулась. Явилась тоска. Он потянулся к бумаге, готовый умчаться из бренного мира в иной, поэтический мир.
И вдруг, прикованный к канцелярии, обнаружил, что не может оторваться от земной суеты, что сами собой опускаются усталые веки и руки, что ноет и вянет натруженная за день душа и что всё необъятней и горше становятся бессилие и тоска.
Что-то в этой философии приключилось не так. Ведь Пушкин и сам разбился о суету. Стоило Поэту встать на барьер, точно Он был заезжий француз. И не только ради суетной цели. Даже если бы имелась и высшая цель.
Весть о гибели Пушкина застала его в мышиных трудах канцелярии, и всё, что дозволялось ему по уставу, это выйти в коридор покурить.
Он вышел и закурил. На это ещё силы нашлись. И отвернулся к стене. Стена была обшарпанной грязной канцелярской стеной, какие-то бумажки висели а ней, а по его щекам струились безутешные, такие соленые слезы.
И очень скоро он перестал соглашаться с пророческой мыслью. Что-то более важное, более грозное приоткрывалось за ней.
Иван Александрович так увлекся, что позабыл обо всем, не думая, что он в гостях, что он не один. Прозаическая маска перестала держаться на свободно проступившем лице, перестала скрывать, что под маской постоянно кипела и билась необычная, неустанная, напряженная жизнь. Напускная сонливость сползла. Ни одна черта как будто не изменилась, Только решительней, крепче стали щеки, челюсти, рот, и зажглись мучительной страстью глаза.
Всё дело, видимо, в том, что возбраняется поэту быть ничтожным даже тогда, когда его лира молчит, что поэт обязан себя оберечь и в самом сладостном сне, обязан себя сохранить, соблюсти, обязан не измельчать, не измазаться в суете, не то какой же после зажжется глагол.
И беспощадная воля встала в иглистых глазах, и, стиснув зубы, он повторил про себя:
«Не смельчать, не смельчать… соблюсти…»
И глубокая складка залегла в переносье между бровей:
«Однако же как?..»
Он сжал кулаки:
«Суетные заботы точат и мнут… и кто устоял против них?..»
Он вдруг приблизился к портрету Старушки.
Её большие глаза молча глядели с холста.
Он бормотал почти в забытьи:
– Попробуй-ка устоять… соблюсти…
Услышал себя и поспешно опустился на прежнее место, заложил ногу на ногу, обхватил подбородок рукой, и лицо без маски было печально.
И всё же непостижимая гениальность в этих стихах… Нечто глубочайшее, вечное… Признак непререкаемый, верный, что гениальный поэт…
Да!.. Да!
Нечего спорить, Майковы были талантливы все, но у каждого талантливость проявлялась по-своему.
Аполлон с юных лет напустил на себя олимпийство, с брезгливостью избранника свыше презирал суету, старательно сторонился её, даже служа в департаменте, как и он, Искусству служил, как служили Богу святые подвижники, укрываясь в пустынях, в скитах, а ни глубины ума, устремленного в вечное, ни огня вдохновения, способного опалить, слишком благополучно, слишком бесстрастно, холодно всё, точно насильно возвышенная душа ко всему равнодушна, нет силы могучей, нет крови живой в классических строгих стихах.
Валерин был горяч, энергичен и быстр, весь в нездешних высоких мечтах, только этому он и сумел показать, что корни человека все-таки в грешной земле, что тут и таится для всех испытание, и Валериан уже начинал понимать глубоко, мог в критике основать свою самобытную школу, однако ж созреть не успел, случилась беда.
А этот, младший, Владимир, Старик, не волнуемый никаким вдохновением, тоже Майков, то есть с верным глазом и с хорошим пером, как-то неприметно стерпелся с ролью чиновника, с положением мужа, с прозаическим бытом семьи, не лелеял, не холил свою одаренность, кое-что прочитал, пописывал иногда в «Библиотеку для чтения», любил музыку, а всё, что ни делал, выходило жидким, без цвета и запаха, и вот впереди ждет апатия, отупение, может быть, и запой.
Он вытянул плотно сжатые губы, точно хотел посвистать, вдруг обнаружив себя в столь умозрительных дебрях.
Так с ним приключалось всегда. Едва он кончал с утомительной иссушающей казенной работой, едва выбирался на свет божий из суматошной её суеты, и первые же часы сладчайшей свободы и отдыха возрождали его, и к нему возвращались то коварные, то светлые мысли, он мыслил, он жил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу