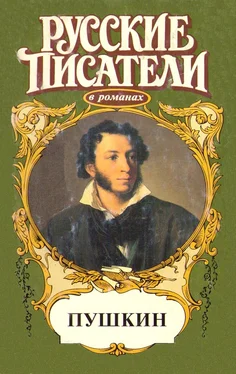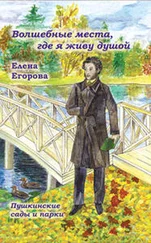Он только собрался выйти в этот летний день, в его отдохновение, как вдруг явился человек от Пушкиных какую-то малость просить, какая в каждом порядочном хозяйстве должна быть своя. Кажется, посуда потребовалась по случаю прихода многочисленных гостей и ведёрко для льда. Он был уже в пути, он, собственно, открыл дверь в прихожую, как явился этот в разорванном под мышкой сюртуке. Корф сделал отстраняющий жест рукой, лицо его было надменно. «Так что наверх передать? — спросил слуга совершенно невозможным голосом. — Будет ли? Нет?» «Ступай к маменьке».
Всё обошлось бы, не замешкайся он в передней. Обходя его, Никита не удержал, разбил соскользнувшую с высокой стопки тарелку. Тарелка была простая, парадных Пушкиным не одалживали.
И сейчас Модест Андреевич помнил, как выставил узкую, хорошо обутую ногу в сторону осколков:
«Послушай, любезный, что это твои господа не отправят тебя на съезжую ума прибавить? Хоть под палками, если добрым словом не получается»?
Надо признаться, он никогда не любил Никиту. Пушкиных холоп был даже дерзок — и взглядом и статью.
И тут стоял выпрямившись, зелёных глаз своих не опуская.
«А это уж подлинно моих господ дело. Дай Бог им здоровья».
Минута была невыносимая.
Возле рундука с шубами стояли трости. Модест Андреевич, тогда он был, впрочем, Модинька, только по первому году усердно служащий, Модест Андреевич схватил одну и в беспамятстве, надо полагать, начал учить Никиту.
Никита стоял столбом, только шею ввинчивал в высокий воротник, потому задом боднул дверь, вывалился вместе с посудой на лестницу. Пушкин догнал Модеста Андреевича на улице, возле полуповаленного забора, всегда смущавшего Корфа своею неопрятностью. Дышал Александр шумно, но слова сказать не мог, будто губы прилипли к ощеренным зубам. Вся африканская натура выявилась, и, был момент, Корфу показалось: сейчас его начнут учить на манер того, как он учил Никиту.
«Я очень понимаю, милостивый государь, вашу выходку! Куда как легко старика обидеть! — Пушкин говорил сквозь зубы неожиданно грубым голосом. — Но буду вынужден научить вас драться по-другому: на пистолетах! Так что извольте, договоримся о времени»...
Он кивнул Пушкину и пошёл дальше тем плывущим шагом, каким ходил всегда, когда поддавался страху. Зачем он кивнул? И что должен был означать его кивок? Согласие на дуэль, что ли? Какая чушь, он ценит свою жизнь, он знает, что может быть полезен царю и Отечеству!
Корф шёл довольно долго, стараясь унять волнение и чувствуя к Пушкину что-то похожее на зависть. Так быть уверену в своей удаче! Или настолько не ценить жизнь? Это тоже давало определённое преимущество — по крайней мере, Модинька так думал.
...Очнулся он на какой-то дрянной улице, куда прежде никогда не захаживал. Маленькие, плохо беленные дома наводили уныние, окна в одном из них были заколочены. Корф стоял озираясь: вспоминал, зачем, по каким делам вышел из дому. Вспомнил...
Всё это случилось очень давно, но с тех пор, а возможно, ещё с лицейских, в нём жила настороженность! Пушкин был опасен, вот что. Вовсе не Вяземский — именно Пушкин. Вяземский мог только перенести тот разговор, довольно давний, в котором он одобрял решение Сената, возбранявшего поэту пускать по рукам любые сочинения до прохождения цензуры. И стало быть, запрещавшее читать стихи даже друзьям.
«А если в альбом? Неужели и мадригалы или какие-нибудь ножки сначала в цензуру? А к случаю — вовсе нецензурное? Чего между друзьями не бывает?» — спрашивал один из молодых спорщиков.
«За «Годунова» голову вымыли — это ещё туда-сюда. А если послание и вправду — в письме? Или вроде обращения к Авдотье Голицыной? Дивные были строки и женщина дивная. Жаль состарилась до невозможности. Какой же смысл это в цензуру?» — Вопрос был обращён ему в упор, хотя стояли люди вокруг по нынешним временам поближе к поэту.
«Господа, — сказал он тогда, словно выходя из задумчивости и поднимая подбородок, упёртый в грудь. — Господа, одно послание послало уже Пушкина прямо на юг»...
Тут он вздохнул, показывая сочувствие.
«Не без пользы оказался ему юг, — отодвинули, отмели и его вздох, и его сочувствие, — вернулся корифеем».
«Неужто и это сквозь цензуру: Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я?»
«И то: нынче он больше по пустякам: «Кобылица молодая» — этаким выступает прямым жеребцом». — Старческие с синевой губы знакомого сановника значительно пережёвывали паузу, выпуклые веки будто бы сонно прикрывали глаза. Сановник говорил долго. Он был неприятен по давней обиде, неожиданно Корф почувствовал к нему что-то вроде нежности: их мнения совпали. Старик тоже считал, что Пушкин недостоин дара Божьего, доставшегося ему, скорей всего, ошибкой.
Читать дальше