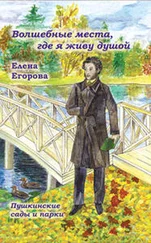Однако как далеко (или широко?) ни распространял бы он в помыслах фельдъегерскую деятельность, до своего последнего при всей гениальности ему было не додуматься. До того, который сопровождал его тело в Михайловское для предания земле. Как будто утратя живые слабости, мёртвым он становился особенно опасен Российской империи, по бескрайним снегам которой его мчали на казённой жандармской тройке — в последний путь.
Признаюсь, сначала в этой главе я и вовсе хотела писать об одном Кюхельбекере. Не скажу даже почему; жалко мне его было больше, чем других, что ли? Даже больше, чем Дельвига, который умер столь рано? И уж куда жальче, чем Пущина. В Пущине ничего не было от жертвы. А Кюхля как предназначен был — в жертвы. Даже прозвища сравните: Большой Жанно и — Кюхля.
А то, может быть, меня подталкивала пушкинская забота и тревога, какие явно звучали во многих письмах. Впрочем, имена Дельвига и Кюхельбекера в них часто стоят рядом: «Обнимаю с братским лобзанием Дельвига и Кюхельбекера», «Обними же за меня Кюхельбекера и Дельвига...»
Но нет, всё-таки Кюхля, неуравновешенный, неустроенный, вовсе не обладавший обаянием Дельвига, беспокоил Пушкина больше. Вот некоторые выписки. Из письма к Н. И. Гнедичу (Кишинёв): «...что-то с ним делается — судьба его меня беспокоит до крайности». Тот же вопрос к брату Льву: «Что Вильгельм? есть ли об нем известия?» «Что Кюхля?» И опять, уже из Михайловского: «Что Кюхля?»
В письмах к Вяземскому фамилия Кюхельбекера встречается часто: «Кюхельбекеру, Матюшкину, Верстовскому усердный мой поклон, буду немедленно им отвечать». «Кюхельбекер едет сюда — жду его с нетерпением». «Что мой Кюхля, за которого я стражду, но всё люблю?» Тому же Вяземскому, ещё из Михайловского в августе 1825-го: «Мне жаль, что от Кюхельбекера отбили охоту к журналам, он человек дельный с пером в руках — хоть и сумасброд». В письме к А. А. Бестужеву есть такие слова: «...К тому же я обещал Кюхельбекеру, которому верно мои стихи нужнее, нежели тебе...»
Если уж быть совершенно объективным, другие имена встречаются не реже: Карамзин, Жуковский, Дельвиг занимают и сердце и ум ссыльного Пушкина. Но во всём, что касается Кюхельбекера, — особая нота. Тревога здесь о человеке, который неминуемо попадает в беду...
Как сочеталось это со знаменитым и нами повторяемым: кюхельбекерно? А вот сочеталось же...
Современники о Кюхельбекере отзывались следующим образом. Пётр Андреевич Вяземский писал Жуковскому в 1823 году: «Вообще талант его, кажется, развернулся. Он собирается издавать журнал; но тут беда: имя его, вероятно, под запрещением цензуры... Надобно помочь ему, и если начнёт издавать, то возьмёмся поднять его журнал. План его журнала хорош и европейский; материалов у него своих довольно; он имеет познания».
Баратынский достаточно пророчески писал в феврале 1825 года: «...Он человек занимательный <...> вместе достойный уважения и сожаления, рождённый для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастий».
Что ж, можно сказать: слава настигла Кюхельбекера. Мы помним его все, кто помнит Пушкина. А кто же среди нас не помнит Пушкина? Но неизвестно ещё, прославила ли младшего собрата поэтическая звезда Пушкина или наоборот — затмила своим ослепительным светом. Я думаю только об одном: как декабрист, как поборник идеи свободы, как мученик и стоик Кюхельбекер всё равно остался бы в нашей памяти.
Что же касается поэзии Вильгельма Карловича Кюхельбекера, ей-богу, не пойму, почему так иронически относились к ней современники. Возможно, Виля много запрашивал? Или, действительно, одним этим невыносимо-метким прозвищем Кюхля был заявлен образ и всё уже рассматривалось сквозь призму усмешки?
Что касается меня, то мне достаточно нескольких строк, чтоб запомнить его именно как поэта.
Горька судьба поэтов всех земель,
Тяжеле всех певцов моей России:
Заменит ли трубою кто свирель,
И петля ждёт его мятежной выи...
Или вот ещё строчки, которые всё звучат у меня в ушах, пока я пишу эту книгу:
Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?
А были же когда-то вы согреты
Такой живою жизнью!..
Этим строчкам почти полтора века, а кажется, что при мне человек крикнул.

 ольховскому и Горчакову он, положим, тоже завидовал, но те представлялись ему достойными: Волховский был первый ученик и стоик. Усилия, какие он тратил, чтоб воспитать характер и закалить тщедушное тело, сами по себе уменьшали зависть. Действительно, можно было сказать: и я бы смог, если бы захотел. Горчаков же всё получил при рождении [100]: Рюрикович! С этим не поспоришь. В придачу к знатности достались Горчакову удивительная миловидность, а также упорство, способность к наукам, ненавязчивая, скорее, прохладная мягкость манер. Вообще, манеры его были неоспоримы. Сам Пушкин в Лицее тяготел к Горчакову. Модест Андреевич Корф хотел сказать: вился вокруг Горчакова, вёрткий, неосновательный, почти неприличный в своей оживлённости...
ольховскому и Горчакову он, положим, тоже завидовал, но те представлялись ему достойными: Волховский был первый ученик и стоик. Усилия, какие он тратил, чтоб воспитать характер и закалить тщедушное тело, сами по себе уменьшали зависть. Действительно, можно было сказать: и я бы смог, если бы захотел. Горчаков же всё получил при рождении [100]: Рюрикович! С этим не поспоришь. В придачу к знатности достались Горчакову удивительная миловидность, а также упорство, способность к наукам, ненавязчивая, скорее, прохладная мягкость манер. Вообще, манеры его были неоспоримы. Сам Пушкин в Лицее тяготел к Горчакову. Модест Андреевич Корф хотел сказать: вился вокруг Горчакова, вёрткий, неосновательный, почти неприличный в своей оживлённости...
Читать дальше
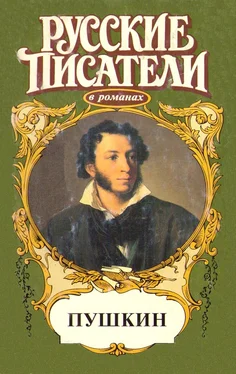

 ольховскому и Горчакову он, положим, тоже завидовал, но те представлялись ему достойными: Волховский был первый ученик и стоик. Усилия, какие он тратил, чтоб воспитать характер и закалить тщедушное тело, сами по себе уменьшали зависть. Действительно, можно было сказать: и я бы смог, если бы захотел. Горчаков же всё получил при рождении [100]: Рюрикович! С этим не поспоришь. В придачу к знатности достались Горчакову удивительная миловидность, а также упорство, способность к наукам, ненавязчивая, скорее, прохладная мягкость манер. Вообще, манеры его были неоспоримы. Сам Пушкин в Лицее тяготел к Горчакову. Модест Андреевич Корф хотел сказать: вился вокруг Горчакова, вёрткий, неосновательный, почти неприличный в своей оживлённости...
ольховскому и Горчакову он, положим, тоже завидовал, но те представлялись ему достойными: Волховский был первый ученик и стоик. Усилия, какие он тратил, чтоб воспитать характер и закалить тщедушное тело, сами по себе уменьшали зависть. Действительно, можно было сказать: и я бы смог, если бы захотел. Горчаков же всё получил при рождении [100]: Рюрикович! С этим не поспоришь. В придачу к знатности достались Горчакову удивительная миловидность, а также упорство, способность к наукам, ненавязчивая, скорее, прохладная мягкость манер. Вообще, манеры его были неоспоримы. Сам Пушкин в Лицее тяготел к Горчакову. Модест Андреевич Корф хотел сказать: вился вокруг Горчакова, вёрткий, неосновательный, почти неприличный в своей оживлённости...