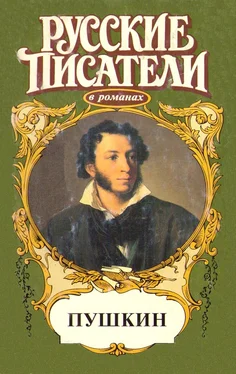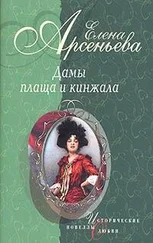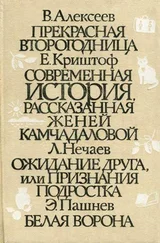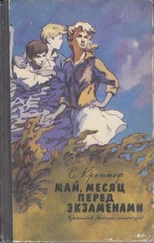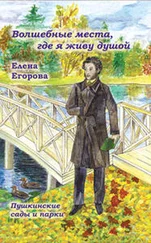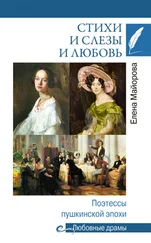Как ни странно, но он жалел отца, бабка ничего не могла поделать с этим. И ещё любил вахтпарады, учения, смотры... О гатчинских бабка, выучившая много русских поговорок, говорила: чем бы дитя ни тешилось... Но были ещё петербургские, сама Екатерина была полковником Преображенского полка...
Он любил эту возможность разом заводить огромные массы людей, требуя от них и в то же время сообщая им точность, почти механическую, волновавшую его непостижимо. И сейчас, рассматривая свои руки, он вдруг ощутил, что очень скоро именно в них сосредоточится та сила, какая управляет не одними парадами. Чтоб успокоиться, он глубоко втянул холодный, режущий лёгкие воздух. Между тем, надо было уходить! его ждал скучный швейцарец Лагарп [57], приставленный к нему, чтоб обучать добродетели и широте взглядов... Они вместе, как равные, как друзья (и в этом тоже была фальшь), читали Руссо, любимого автора Лагарпа. Руссо уныло рассказывал о том, как, например, воспитывается добродетель женщин.
О женщинах он знал другое, существовавшее совершенно ощутимо под руками во дворце, в каждой его более или менее отдалённой комнате, в каждом переходе, просто между складок тяжёлых портьер. Книги врали.
Женили его очень рано, в шестнадцать лет. Жене его было четырнадцать. Всю жизнь он не любил её [58]. Возможно, из протеста. Возможно, из-за того, что добродетель её обитала в полувоздушном, жеманном теле, не вызывавшем желания. Или потому, что она не могла иметь детей? Однако и тут он лицемерил, изображая любовь, внимание, иногда — страсть.
Но что-то было, было же вначале его царствования, что заставило вполне уже зрелого Пушкина сказать: «Дней Александровых прекрасное начало» [59]?! Верил ли Александр I, что осуществит те реформы, какие обсуждал со своими молодыми друзьями? Он, не приученный ничего добиваться, в глубине души сознающий слабость собственного характера?
Но он хотел быть первым. Ах, как он хотел быть первым — и чтоб не только отец, чтоб бабка тоже была забыта в сравнении с его будущими подвигами. И, кроме того, он всегда до телесного нетерпения хотел быть обожаемым. Игра привилась к нему, стала второй натурой. В войне 1805 года он намеревался сыграть очень молодого полководца, вместе великого и великодушного к попранным. Поражение под Аустерлицем сломило его [60]. Он не просто испугался, ужаснулся своему страху, тому, что на всю жизнь с ним останутся звуки крошащегося под ярдами льда, ржание лошадей, тонущих и выбивающихся копытами, а главное — безмолвные и как бы нелепые взмахи рук тех, кто был уже убит, сейчас, сию минуту. И кто совсем недавно на марше яростно преданными глазами провожал его, легко и весело скачущего мимо тоже весёлых его молодой весёлостью войск.
Между тем во всём была его вина: его самомнение, подогретое лестью и самомнением же окружающих, его неопытная доверчивость привели к полному разгрому армии. Впрочем, очень скоро, даже в мыслях, он привык ссылаться только на доверчивость. Об Аустерлице, о том, что и как там произошло, в России запретили писать. Именно с этих пор у Александра Павловича появилась привычка отвлекать себя звуками собственного голоса, чаще всего негромко-натужными, какие иногда издаёт наедине с собой человек, идущий в гору с большим грузом.
Потом он увлёкся и, значит, отвлёкся дипломатией. Внутренние дела, сама Россия были слишком непостижимы. В дипломатии же, в общении с королём прусским, императором Австрийским, Наполеоном заключалось привычное с детства — та же игра...
О том, как его метаморфозы воспринимал Пушкин, говорят следующие строки:
Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фруктовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!
Это было написано уже во время ссылки, до Александра I не дошло, на судьбу поэта не повлияло. И говорит прежде всего о том, что, коль скоро сложилась в уме ёмкая формула правления и одновременно точный портрет, Пушкин не мог отказать себе и оперил их рифмой, выстроил в строки.
Правда, приблизительно в это же время он написала:
Он человек! Им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.
Впрочем: «простим ему», не вошедшее в печатный текст, тоже ведь несколько крамольно?
Сложную фигуру Александра I не так-то легко было объяснить однозначно. Пушкин же хотел быть объективным.
Читать дальше