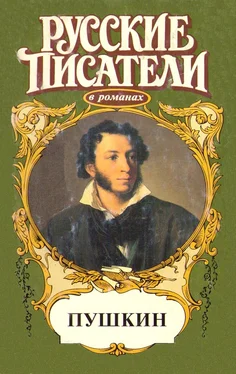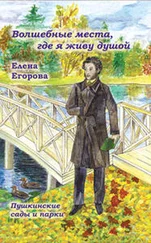...На лицах дерзость, в сердце страх...
Александр оглянулся испуганно, показалось: он произнёс эти слова вслух, да ещё невольно любуясь точностью. В огромной комнате никого не было; слабо блестел паркет, свет в дальнем углу лежал на нём, как лунная дорожка, неверным, масляным пятном.
Свечи зажгли рано, он попросил...
Он досадливо поморщился одной щекой. Но тут же лицо его стало горьким, потому что вспомнились не одни только раздражающие строчки, но и сама ночь. И все уговаривающие его, все толкающие в пропасть.
Мальчишка был уж тем виноват, что вернул его в то время, о котором он приказал себе — забыть. И на самом деле почти вычеркнул из памяти их имена, их лица в твёрдых, крупных морщинах. А напомнить кто б осмелился?
Да, нынче свечи зажгли рано: он попросил.
Он любил просить. Стакан воды, минуту внимания, полной откровенности. И он любил, когда его просили и можно было дать то, что просят...
Карамзин, Жуковский и Энгельгардт просят...
За окном уже ничего не было видно, кроме бледного лица, но он знал, что было за окном... За окном распростёрлась по лужам, по перелескам и холмам непостижимая страна. Страна, которую не дано было ни постигнуть, ни объехать даже ему, привыкшему к дороге, кочующему. На этом слове он снова как бы споткнулся и дал обыкновенной злости овладеть собой, но — на минуту, потому что мысли о стране оказались сильнее, неожиданно повернули в нужную сторону. Страна потопила в себе, в своих снегах и, главное, в своей непостижимости армию этого выскочки Наполеона Бонапарта...
Воспоминание о Наполеоне его изрядно взбодрило. Теперь он видел себя молодым, высоким и стройным, а напротив стоял, зло упираясь в землю маленькими ступнями, обидчик. Он подумал именно этим словом — обидчик. Но потом, в нетерпении дрогнув щекой, заменил его другими: маленький господин разбойник. Маленьким господином разбойником был назван великий завоеватель Наполеон Бонапарт. Этот маленький господин не стоял тогда, а, подпрыгивая, топтал в бешенстве собственную шляпу. По лицу его разливались зелёные тени.
— Вы резки, а я упрям, — сказал император маленькому разбойнику. — Будем разговаривать, будем рассуждать, а иначе я уеду...
Шёл 1808 год, и Наполеон добрался до вершины своей славы. И то, что он, Александр, не поддался уговорам и угрозам, очень его бодрило и много лет спустя. А ведь топтание шляпы — он понимал — было не следствием плохого воспитания, а скорее жестом устрашающим. И много лет спустя он помнил мокрую, ржавую траву на газонах, одинокие листья, сохранившиеся на голых ветках. Они возвращались с прогулки как бы совершенно одни. Но они никогда не были одни.
— Иначе я уеду...
И, поставив на место выскочку, почувствовал такое облегчение, какое чувствуют, вступая в прохладную реку после трудного дня манёвров. И какого он не чувствовал с первых дней юности.
Карамзин, Жуковский, Энгельгардт...
Впрочем, Жуковский всегда за всех просил, если не его самого, то императрицу.
О Карамзине и Жуковском царь вспомнил во второй раз, уже укладываясь. Постель была теперь достаточно мягка, и он с удовольствием ворочался, избавляясь от дневной необходимости думать об осанке. Он повернулся на правый бок, желая побыстрее отгородиться от всего, что его окружало, перейти в сон. Сон, однако, не впускал в себя, выталкивал жёстко, что случалось не так уж редко. Вместо сна перед закрытыми глазами его встала картина.
Он увидел пруд, вскипающий белыми, сильными, переполнившими его телами, и почувствовал мгновенное отвращение, сильное до дурноты. Слишком много было этих тел, трущихся друг о друга, ныряющих, хлёстко шлёпающих по мокрым спинам и ягодицам, выскакивающих на берег, ими же истоптанный, испоганенный. Сапоги, рубахи, скатки лежали поодаль на мятой траве...
Ровно час назад над этой травой летали белые и жёлтые невзрачные бабочки, но именно их простота в сочетании с простенькими же светло-голубыми цветочками успокаивала. Успокоение и непонятно от чего возникшее ощущение справедливости всего того, что происходит на свете, охватили императора, когда он со свитой скакал мимо небольшого этого пруда, чисто отражавшего небо. И берега его представлялись вовсе не илистыми, но светло-песчаными...
Возвращаясь той же дорогой, он видел картину противоположную. Гогот, ёрнические шлепки оскорбляли особенно, но почему-то он попридержал коня и даже привстал в стременах, рассматривая подробности купания и невольно чувствуя, что у тех, в пруду, есть какие-то преимущества перед ним. Может быть, всё объяснялось душной жарой? Воздух стеной стоял на дороге, тесно окружённой разомлевшими деревьями. Ту нестерпимую, пресекающую дыхание духоту он вспоминал вместе с щекочущим, властным желанием собственного тела оказаться в воде. Розоватые и пепельные вмятины на солдатских плечах там, где стягивали и тёрли ремни, были опрятны и очевидно безболезненны. Он же и тогда и сейчас, вспоминая, протянул руку к собственному левому боку, где под корсетом бывало особенно неудобно. Безотчётный жест этот на людях ему почти всегда удавалось прервать. Или сделать вид, что в забывчивости прикоснулся к сердцу. Сейчас в постели он слегка потирал бок, старался облегчить тоску истончившейся кожи.
Читать дальше