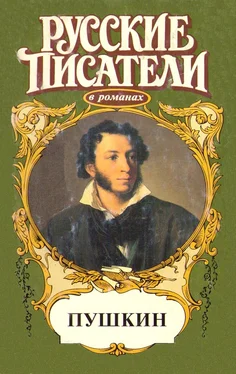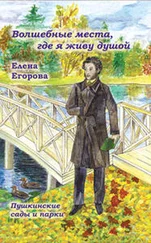...Ни фигурой, ни манерами Фризенгоф не напоминал Пушкина, совсем другой, без ребячливости, без порывов — в общем, любезный, случайный гость. Но однажды в сумерках — расстояние было тому виной? её собственная близорукость? — показалось; под старой липой возится с детьми Пушкин. Или все мысли о сиротах вели к тому, чтоб показалось: сидит спиной, прижимает к себе Гришу, сам натягивает тетиву, но и ему даёт прицелиться, ощутить напряжённую упругость нетерпения...
Вот — знакомо качнул головой, подозвал Сашку, своего любимца. Вот — повёл рукой, широко охватывая. Рука была пушкинская, быстрая, с маленькой кистью. Так показалось Наталье Николаевне.
Собственно говоря, она уже не понимала, что происходит на лугу, что в её расстроенном сознании. Кажется ли ей, что человек в белой рубашке хоть отчасти, со спины похож на покойного мужа? Или просто-напросто воображение рисует того на месте милого, но чужого человека? Готового, в лучшем случае, научить её детей отличать птиц по голосам, стороны света по каким-то одному ему известным приметам да стрелять из лука?
Ах, если бы можно было пройти жизнь назад, выбрав повзрослевшим сердцем от рокового поворота иную дорогу... Если бы возможно было такое, на поляне как раз забавлялся бы с детьми Пушкин. Шёл пятый год её вдовства, но, кажется, ни разу столь пронзительно не уколола реальность: «Пора, мой друг, пора», — он звал её как раз к тому, что она разглядывала сейчас, прислонясь к наклонённому стволу старой могучей берёзы.
И вдруг ей стало дурно. Обвисая, она скользила в траву, боясь привлечь внимание и чувствуя знакомую боль в ослабевших ногах.
По дорожке от дома к ней бежала Александра.
— Что с тобой? Таша, что с тобой? Судороги? Опять? Сколько лет уже не повторялось, почему же сегодня?
Наталья Николаевна легла на берёзу грудью, глотнула воздух.
— Мне уже хорошо, Азинька, друг мой. Просто на минуту показалось...
Что показалось, уточнять было ни к чему. Даже глазами в сторону Фризенгофа и детей она повела как бы против желания. Не удержалась, захотелось проверить: была ли причина хоть в воображении своём так ошибиться?
Александра Николаевна глянула в ту же сторону.
— Он велел тебе вдовствовать всего два года. Он был очень добр к тебе. Детям нужно мужское начало в доме, Таша.
— Но кому нужны мои дети? И кто будет так же добр ко мне?
— Так добр? Никто, не станем обманывать себя. Но и ты ведь не та девочка, которую надо было прощать, снисходительности и доброты своей же ради...
— Неужели я действительно всё время делала не то?
Неизвестно, куда бы свернул разговор, но три охотника поднялись из травы во весь рост и бежали к ним, вполне возможно, чтоб взять в плен прекрасных чужестранок. Рыжий Сашка, как звал его Пушкин, был давно не рыж, строен и лёгок детской и вместе аристократической свободной в движениях лёгкостью. Он не отрывал глаз от матери, и в этих упрямых небольших глазах светилась преданность. А также радость от того, что сейчас он, если и не влетит в объятия, не приличествующие уже его возрасту, то уж, во всяком случае, нырнёт под материнскую руку... А маленькому трава была по пояс, он прорывался сквозь неё, боясь отстать, — румяный и потный. Взмокшие волосики особенно кудряво стояли надо лбом — так же, наверное, как когда-то у Пушкина. Глаза округлились от усилия, и Наталья Николаевна протянула ему руки, подхватывая...
...Есть рисунок: «Дети А. С. Пушкина». Четверо сидят за столом, на котором кринка, ложка, бедная, крестьянская тарелка, скорее всего, с картошкой, и ещё какие-то мелочи. Что за стол под простой скатертью с этими простыми предметами на нём? А это стол в Михайловском. У Маши длинные косы и худенькое, нервное лицо, Саша — в косоворотке, волосы не стрижены, вьются, и получается мальчик совершенно в русском народном духе. Косоворотка красная, маленькая, но совсем как та, в которой Пушкин появлялся на ярмарках...
Руки дети выложили на стол, и видно в их позах нетерпение. Набегавшись, они ждут ужина. Сейчас принесут кружки и масло или сметану с ледника. А потом Александра Николаевна оглянется и пошлёт кого-нибудь из нянек за вилками...
Есть ещё рисунок того же времени: Гриша на дереве. Он стоит многих свидетельств, потому что даёт представление о том, как воспитывались дети Пушкина: ребёнок мал, а ветка, на которой он сидит, высока. Право, было бы жаль, если бы его к таким веткам не подпускали. Но, очевидно, не следует забывать те калужские овраги, через которые сёстры Гончаровы мчались на бешеных лошадях — кто скорее сломит шею...
Читать дальше