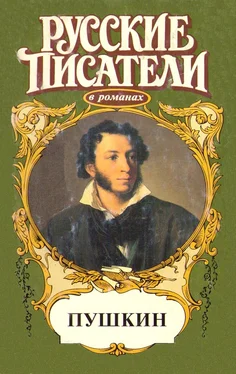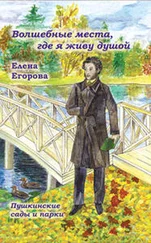Простодушием веяло от аккуратных проборов, от розовых, конечно же умытых первым снегом щёк. И он, поддаваясь общему настроению, был в лучшем своём состоянии, он был добр и расположен ко всем. Он вышел из зала, и уже портьера, тяжело вильнув, скрыла его, как вдруг среди общего, оставшегося за спиной шума услышал:
— Кто такой? Вот этот, только что тут проходил? Иностранец?
Он задержал шаг, удивившись: почему?
Старуха Вельяшова тоже удивлённым, густым голосом проворчала:
— Что ты, мать моя? С какой стати?
— На здешних никак не похож, и танцует и походка — точно летает.
— Пушкин это: сочинитель, отличные стихи пишет... Неужели не читала?
— Нет ещё. Красивый очень. И волосы, как мерлушка... И улыбается...
Тут уж он не мог не вернуться, не посмотреть, кто его так аттестует? Оказалось: простенькая, и белое платьице даже той изящной скромностью, что у Катеньки Вельяшовой, не отличается. Потом узнал: полусирота, воспитанница Павла Ивановича Вульфа [120].
А они как раз все вместе с тригорскими и ехали к Павлу Ивановичу из Старицы в Павловское.
Павла Ивановича Вульфа Пушкин любил больше других тверских своих знакомцев. Впрочем, любви, приязни на всех хватало. Всё время этого января, по его же собственному выражению, ему было очень весело, потому что он душевно любил Прасковью Александровну и опять-таки очень любил деревенскую жизнь. И красивую, раскидистую долину Тьмы; и старинный английский парк с нависшими, сгорбленными снегом деревьями; и прочный, уверяющий в неколебимости особняк; и нетерпеливое ржание лошадей в огромной конюшне; и шум толпы дворовых, расчищающих дорожки после ночного снегопада. В эту толпу он любил вмешиваться, отнимал у кого-нибудь деревянную лопату или метлу и не столько помогал, сколько суетился от детской, телесной радости бытия. А так же от синих дымов в синем небе, от того, что с широкой лопаты можно было метнуть снегом, обсыпая заодно и себя...
Барышни кричали с крыльца: «Ах, Пушкин! Вот какой!» И по чистой твёрдой дорожке тотчас бежали, невесть куда и зачем, нарочно раскатываясь и скользя. Впереди других, как, бывало, в Тригорском, сбрасывая на плечи платок, вертя простоволосой круглой головкой, мчалась Евпраксия Вульф. Кристальная Зизи [121], как называли её барышни из-за его стихов в «Онегине». Барышни обсуждали её манеры, наряды и то, что Пушкин, кажется, к ней совсем остыл.
— Ах, Пушкин!
Здесь, в Павловском, Малинниках, Бернове воздух пах, как молодой огурец, сорванный только что с грядки молодыми руками, не разрезанный — разломленный в нетерпении. И верилось в счастье. Здесь он был моложе, чем где-нибудь, и как-то удавалось действительно оставить тревоги и сомнения, от которых было не откреститься ни в Москве, ни в Петербурге... С ним ли, и не столь давно, случились неприятности по поводу «Андрея Шенье» и «Гавриилиады»? «Снова тучи надо мною // Собралися в тишине; // Рок завистливый бедою // Угрожает снова мне» — это было и прошло, слава Богу, минуло, но случится ещё, он не сомневался. Ему суждена была только минутная лазурь.
Вот эта минутная лазурь и стояла сейчас над ним, и он ребячился вовсю. Не уступая в том Петру Марковичу Полторацкому [122], человеку уж вовсе не молодому, отцу очаровательницы Анны Петровны Керн. Перед обедом «для аппетита» танцевали немыслимый вальс-казак, и Пушкин охотнее, чем с другими, с той полусиротой, воспитанницей Павла Ивановича, которая так умилительно сочла его красивым.
— Ну, Екатерина Евграфовна, за вами ещё один танец — перед ужином. Это уж непременно! — и мчались по анфиладе комнат, кружась на не застеленном коврами полу.
Здесь случались истории уморительные, вроде той, которую Пушкин с радостным простодушием описывал Дельвигу: «...На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Пётр Маркович их взбудоражил, он к ним прибежал; дети! дети! мать вас обманывает — не ешьте черносливу; поезжайте с нею. Там будет Пушкин — он весь сахарный, а зад его яблочный, его разрежут, и всем вам будет по кусочку — дети разревелись; не хотим черносливу, хотим Пушкина. Нечего делать — их повезли, и они сбежались ко мне облизываясь — но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили».
Но наряду с этим происходили события вовсе драматические. Расстраивались слаженные свадьбы из-за спеси маменек или легкомыслия молодого улана, вдруг вспомнившего, что слаще свободы ничего на свете нет. И гнался улан за этим призраком, переведённый из Старицы в другие, более великолепные места. Или вывёртывалось такое — только руками разведи! Так, Алексей Вульф вдруг решил повторить подвиг графа Нулина и ночью оказался в спальне одной из обитательниц гостеприимного дома. Стоит на коленях, голову положил на её подушку и шепчет что-то в упоении вседозволенности. Проснувшись, девушка завизжала в ужасе, и Ловелас Николаевич был принуждён, проклиная равно себя и её, чуть не ползком выбираться из комнаты. Пощёчины, в отличие от графа, он, правда, не получил.
Читать дальше