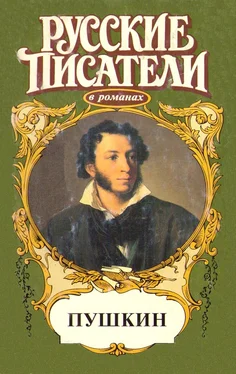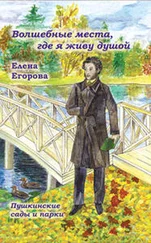«Почему он ей потакал? Почему он её прощал? Почему он ей не запретил?» А почему мы не помним: Пушкин говорил, что Отелло не ревнив, но — доверчив? Пушкин же был не просто доверчив, он верил. И наверное, были основания верить, если эта вера не испарилась до последних минут жизни. При его-то проницательности!
Пока же корректуры своего мужа Наталья Николаевна не держала, в литературных или политических спорах вряд ли могла принимать участие (не Екатерина Орлова!) и куда как довольна была, что от великолепных снеговых ковров, среди которых, гляди, могла бы оказаться на Заводе [124], жила теперь в хладном и бледном Петербурге, который ей таковым не казался.
Быт же семьи Александра Сергеевича Пушкина оказался несопоставим ни с чьим из окружающих. У всех наличествовали имения, должности; сваливалось — как, например, на безалабернейшего Нащокина, и не единожды, — наследство. Один Пушкин зарабатывал неверным своим ремеслом. Когда-то, в 27-м, он с горечью и гордостью писал С. А. Соболевскому: «Положим так, но я богат через мою торговлю стишистую, а не прадедовскими вотчинами, находящимися в руках Сергея Львовича». Теперь он и сам себе не казался богатым. Расходы росли, долги множились. Время было дорогое, быт безалаберным. «...Женясь, я думал издерживать втрое против прежнего, вышло вдесятеро». Но будущее виделось долгим и описывалось весьма простодушно в письме к Плетнёву 22 июля 1831 года. «...Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо».
Однако Дом в свинском Петербурге не получался.
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Это уже шёл 1834-й. В самом начале его писалось. И конкретно могло относиться пока только к Михайловскому, где по кровле обветшалой (ещё более обветшалой!) всё так же соломой шуршал ветер. Но не в Болдино же, не в Кистенёвку собирался он везти жену: там ни глазу, ни сердцу не за что было зацепиться. Это, равно, как и унылая пора осени, нисколько не мешало работе. Но в качестве постоянного жилья мерещилось, очевидно, что-то другое. Двух озёр лазурные равнины, поразившие воображение ещё в отрочестве, шум дубрав и тишина полей.
А кроме того, тут покоились отеческие гроба. Тут было родовое гнездо Ганнибалов. И воспоминания юности, ссылки тоже прикрепляли к этой земле. У окна сидела няня, а в другое было видно, как подъезжает из Тригорского коляска, белые зонтики колеблются неясно в мареве, поднявшемся над дальним ржаным полем.
Странно подумать, но несобственное Михайловское с его таким маленьким, таким незначительным в сравнении хотя бы с гончаровской махиной домом — так и осталось единственным пушкинским Домом, единственным гнездом. Остальные были — квартиры. Мы ведь так и говорим: последняя квартира поэта на Мойке в доме Волконских. А до этого снимались в доме Китаевой, Брискорна, в доме Алымова, Жадимеровского, в доме Оливье. И мебели перевозились, расставлялись непрочно, не навсегда, до следующего переезда. Сейчас эти «мебели» поражают не то бедностью, не то какой-то невыразимой «жалостностью». Как морошка в долг, как нащокинский фрак, данный взаймы, как бекеша с оторванной пуговицей. Как то посмертное выражение вроде бы сразу ставшего маленьким лица, которое всё колет и колет сердце. Будто не одни современники, но и мы с вами в чём-то виноваты, что-то могли сделать, а не сделали.
...Утопичность своего побега в тридцать четвёртом Пушкин как будто и сам понимал. Но это был давний замысел.
«Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму», — ещё в ноябре 1826 года писал Пушкин из Михайловского.
«...если бы мне дали выбирать между обеими (столицами. — Е. К.), я выбрал бы Тригорское», — из письма к П. А. Осиповой от 10 июля 1827 года. И очевидно, это не было простой любезностью.
Тема продолжается и в январском письме 1828 года: «Признаюсь, сударыня, шум и сутолока Петербурга мне стали совершенно чужды — я с трудом переношу их. Я предпочитаю ваш чудный сад и прелестные берега Сороти...»
Однако прелестные берега Сороти, сосны Тригорского, Михайловское с течением времени отодвигались в ту область, где реальны только воспоминания. Понимать-то он это понимал.
Читать дальше