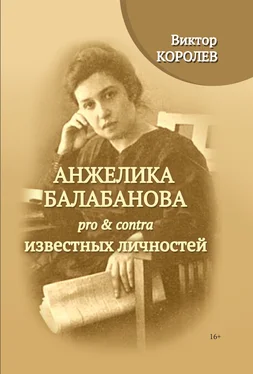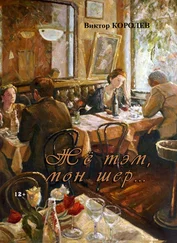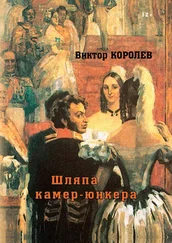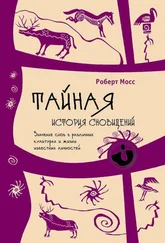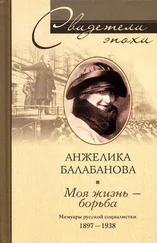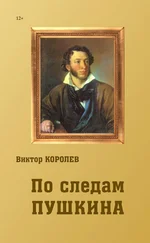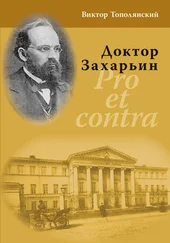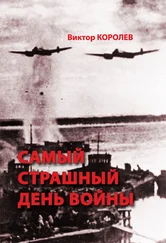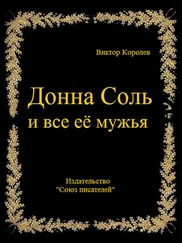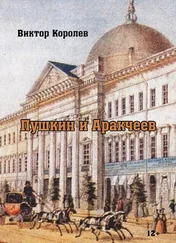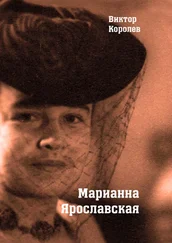Лекция закончилась. Проводили господина Коцюбинского аплодисментами, цветы подарили. На выходе Алексей Пешков поздоровался.
– Понравилось ли вам, барышня? Не жалеете, что пошли?
– Нет, Алексей, Максимов сын, не пожалела. Видно, что Коцюбинский добрый человек, настоящий народный учитель.
– Да. И добрый, и честный. Трудно жить ему.
– Это ещё почему?
– Быть честным человеком на Руси очень дорого стоит. А у него душа художника, он прямо рождён с органической брезгливостью ко всему дурному. Но только молча. Как у Льва Николаевича – непротивление злу насилием. Вы любите Толстого?
– Я только «Лев и собачка» читала.
– У-у, вы счастливый человек! У вас всё впереди! Толстой – это не человек, это глыбища!
Они шли по деревянным тротуарам. Он держался чуть сзади, ступал тихо, по-звериному. Она не была томима ни нежностью, ни робостью, спокойно цокала каблучками новых туфелек. Так и вышли на площадь.
– О, чёрт! Что это?! – Алексей, сын Максимов, замер в изумлении.
С другой стороны въезжала на Красную площадь венская карета о четырёх огромных колёс. Карету медленно тянули два вола, которыми правил возница, имевший облик весьма живописный. Поверх рубашки одет он был в кожаную безрукавку, похожую на кирасу, ниже штаны в крупную клетку, на ногах жёлтые сапоги со шпорами и широкими раструбами, на руках белые перчатки до локтей. На голове – широкополая шляпа с пером какой-то экзотической птицы.
– Это достопримечательность нашего города, предводитель уездного дворянства. Григорий, сын коллежского асессора Глебова, папиного партнёра по шахматам. Едет проверять строительство своего замка. Видите чудо-здание в лесах?
– Почему он похож на попугая в банановых лесах в далёком Парагвае?
Анжелика засмеялась.
– Это долгая история.
– Уж расскажите, умоляю. Мы ведь не торопимся?
– Ну, слушайте. Говорят, как-то в Италии увидал он удивительной красоты девушку. Но она оказалась принцессой из семейства Наполеонов, так что шансов у младшего Глебова не было. А тут ещё и соперник рядом. Родной дядя этой принцессы, чисто-блакитных кровей, обхаживает племяшку совсем не по-родственному. Глебов попытался объясниться с принцессой, но был взашей изгнан из её замка. Вернулся домой – и решил свой собственный замок построить. Один к одному, как у этой гордячки. Поначалу все черниговцы зависали у окон, когда ехал он по лужам в карете. Потом привыкли, пусть себе дивачит.
– Как интересно вы рассказываете! Мне так не умеется! Вы обязательно должны писать рассказы! – сын Максимов радовался искренне, как маленький. – Ваш язык такой богатый, нельзя его прятать! А вот хотите, я вам расскажу, откуда в русском языке появились беглые гласные?
– Да, этимология меня всегда интересовала.
– Давно это было. Двух молодых добропорядочных людей за свободолюбивые взгляды сослали в Сибирь под гласный надзор полиции. Они устроили побег. С тех пор и пошло – «беглые гласные».
– Смешно, – молвила спокойно Анжелика. – Очень смешно пока.
– Ну, не сердитесь, прошу вас. Антон Павлович Чехов не раз повторял: десять раз пошутишь, из них девять – совсем не смешно. Бывает. Уж больно ваша городская достопримечательность на скоморошный лад настроила. Так и хочется сказать: «Идёт идиот-идиотом! Конежностями едва шевелит! Морда плюшевая, жравчик ему подавай. А кому он сам-то нужен – жравчик плюшевый?» Город у вас прекрасный, так бы и остался жить здесь. Совсем не скверно вы живете, господа! Вольно у вас, интересно. Душа свернулась, развернулась – и так хорошо. Идёшь через реку – мост с тобой разговаривает, солнце улыбается, река смеётся…
– Это антропоморфизм чистой воды, – вдруг вырвалось у Анжелики. – Ещё расскажите, что дверь вам проскрипела: «Не уходи, побудь со мной!..»
– Какие вы слова иностранные знаете!
– Брэма «Жизнь животных» читала. И много других книг – это ведь источник знаний, не так ли? Иностранцам ни за что не понять, почему у нас «часы стоят, время идёт, а годы летят». Немцы смеются над русским словом «кастрюля», а мы всего лишь упростили их «кастеролле».
– Браво, барышня, браво! Сколько в вас разума! – он аж остановился, и чёрная косоворотка заиграла на плечах косой сажени, и сам он заискрил, стал чёрной молнии подобен. – А я даже не знаю, как вас зовут?
– Анжелика Балабанова.
– Вы интересная чудачка, Анжелика! Вырастете, станете знаменитой!
– Вы тоже.
На том и расстались довольно сухо…
Пройдёт девять лет. Она, уже самостоятельная и вполне взрослая, в начале февраля 1900 года будет ехать в поезде Брюссель-Париж. На одной из остановок купит какой-то литературный журнал на русском языке. Усмехнётся, увидев имя автора под рассказом – Иегудиил Хламида.
Читать дальше