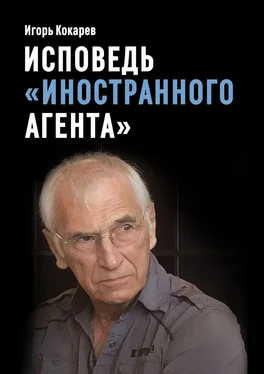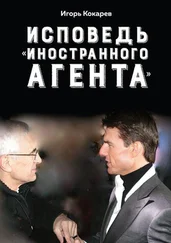Во времена нашей юности Одесса была русским городом с еврейско-украинским акцентом. Порто-франко в каком-то духовном смысле. Нормальные люди общались цитатами из «Двенадцати стульев», хотя книги официально не существовало. Остапом Бендером вошла в сознание эпоха НЭПа, оставив за скобками кровавые роды советской власти. А нынешнее время форматировал Жванецкий. Миша видел мир глазами застенчивого интеллигента, рассказывающего, как пройти на Дерибасовскую, смеющегося над глупым доцентом, которого довел до бешенства прямодушный студент Авас. Миша вносил свою лепту в нашу речь, помогая сохранять себя, свою внутреннюю свободу.
Слово вообще имело большое значение для одесситов. Им играли, им cкандалили, им упивались, им нежились, как солнцем на горячих пляжах. Жить для меня значило прежде всего выразиться в слове, ради которого стоило и рисковать. Я рано понял, что увиденное, но не осмысленное, растворяется без следа. А осмыслить означает найти слова. Потом я найду эту мысль у Бунина в «Жизни Арсеньева» и очень огорчусь. Оказывается, не я один…
…Помню в моих руках страшные тексты. Смятые, затертые страницы дневника недавно реабилитированного политзаключенного, друга моего отца, написанные им «там», урывками и тайком. На нашей маленькой даче в полдомика на 13-й станции Большого фонтана передо мной сидел изрезанный не то морщинами, не то шрамами сломленный человек и вяло рассказывал немыслимое. В 37-м он занимал высокий пост председателя Баскомфлота, профсоюза моряков. Его вызвали в Москву и взяли прямо в кабинете Берии, после дружеских объятий красного наркома. И для начала профессионально избили. Ни за что. Я не мог представить, как это бить беззащитного человека? Расчеловечить, мгновенно превратить в корчащееся от боли животное.
Я был потрясен прочитанным. Я только спросил его:
– Вы не хотите отомстить своим мучителям?
Он посмотрел на меня печальными, мертвыми глазами:
– Отомстить? Молодой человек, у меня сил осталось только дышать.
Тогда я не понял его. Только что разоблачен культ личности, возвращены невинные жертвы террора. Но еще нет Солженицына и Шаламова. Не представляя себе масштаба содеянного партией не то подвига, не то преступления во имя так и не наступившего будущего, я всю жизнь буду мучиться одним и тем же: кто они, эти палачи, вертухаи, стукачи и следователи? Что у них в головах и в сердцах, что сделало их такими бесчувственными и страшными? И как можно оставить их жить безнаказанными и не раскаявшимися рядом с нами?
Я переспросил папиного друга:
– Значит, вы им простили?
– Нет, не так. Я знал: раз посадили, значит, партии так нужно. А где умирать за дело партии, в бою или в лагере, это не важно. Я, значит, был нужен ей там.
В этой логике безропотного жертвоприношения было что-то темное, запредельное. Сломанные и не сломленные? Утраченные лучшие люди… И почему это – арест, пытки, тюрьма, лагерь, расстрелы – было нужно партии? Ослепленные безбожной верой, одни шли на заклание, другие пытали и мучили, оставляя после себя шлейф смертельного, запредельного страха.
С тех пор, с тех самых дневников папиного друга меня не покидал неосознанный, сидевший где-то в глубине подсознания стыд за нашу мирную и благополучную жизнь, доставшуюся нам такой ценой. Была какая-то внутренняя неосознанная потребность очиститься, отмолить что-то ли грех предыдущих поколений, он висел как тяжкий груз на ногах, не давал бежать дальше, было что-то не то с душой и совестью, когда включалась память.
Сами-то мы все же были уже другими. Во-первых мы не знали многого. Книги и песни, фильмы и картины продолжали вдохновлять героикой Гражданской войны и великих строек. Отец, который мог бы что-то рассказать иное, молчал. Знал ли? Да я и не спрашивал, не принято было. Когда его, старшего механика Черноморского пароходства, всю жизнь утюжившего моря и океаны, партия вдруг бросит на подъем сельского хозяйства в Молдавию, он тоже безропотно подчинится. Конечно, это не лагерь и не допросы с пристрастием. Директор машино-тракторной станции в Молдавии в Дубоссарах ремонтировал комбайны вместо судовых двигателей. За что получил орден Трудового Красного знамени. Он тоже не задавал вопросов…
А я? И я ведь туда же! Придет время, и я по призыву комсомола в степи казахские на комсомольскую стройку шагну с флота. Добровольно! С энтузиазмом!
– Идиот, – усмехаются товарищи, глядя вслед уходящему.
– Романтик, – напишут в газетах.
Читать дальше