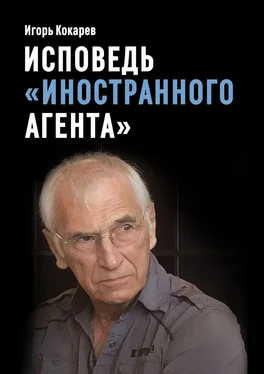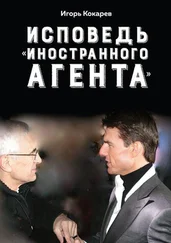Вот здесь, от Оперного театра через бульвар, открывавший весь порт и море, к колоннаде Воронцовского дворца и к школе Столярского у Сабанеева моста с видом на далекую Нефтегавань, глаз с отрочества привыкал к красоте. Поэтому у одесситов хороший вкус и разговорные способности.
А вот детства у нас не было. Его отняла война. В Одессу после эвакуации мы вернулись из Владивостока в 1945-м. Пол подъезда было снесено бомбой вместе с квартирой соседей. Наша вместе с лестницей на пятый этаж висела в воздухе. Ничего, так первое время и жили. За городской баней, где мылись по субботам всей семьей, был известный только нам, пацанам, подземный ход в катакомбы с костями не то людей, не то каких-то животных.
Министерство морского флота отправило отца с семьей в командировку в Румынию, где за три года я выучил румынский, просто болтаясь с отцом на студабеккере по горам Трансильвании и по берегам Дуная. А потом Одесса. Школьнику для счастья достаточно было знать, что нас ждет светлое будущее, которое нам предстоит приблизить. Жизнь в стране только что победившей фашизм – это кусок хлеба с конской колбасой, стакан чая перед школой и песни советских композиторов. Ни холодильников, ни телевизоров, ни телефонов, ни ванн у нас не было. Воду носил из колонки во дворе на пятый этаж ведрами. Но был горд, что родился в СССР, а не в загнивающей Америке, где негров вешают.

«Два мира – два детства», может, кто помнит такие плакаты?
Зато у одесских мальчишек было море – чистое, зеленоватое у заросших мидиями осколков скал. Море и книги. Аккуратным почерком записывал каждую прочитанную, вот она, полуистлевшая тетрадка, которой 70 лет. В ней сотни книг, целая библиотека, огромный мир, в который предстояло войти и сделать его справедливым, красивым и счастливым. Если советской власти удалось вывести породу советского человека, то это я. Будущее звало, завораживало романами Ефремова. Про Оруэлла мы ничего не знали. Зато я знал Маяковского:
«Кто там шагает правой?
Левой,
Левой,
Левой!»
Ранним летним утром добегали пацаны до Ланжерона, влетали в прохладную плотную воду и легко проплывали всю дикую, заросшую степным, пахучим ковылём Отраду, выбрасывались на горячий уже песок в Аркадии и спали под палящим солнцем, черные, как сухие коряги, до обеда. Просыпались, чтобы с наслаждением проглотить за двадцать копеек четыре пирожка с потрохами, выпить на пятак газировки. И обратно морем. Но, уже не торопясь, выходя к рыбакам в Отраде похлебать из солдатского котелка юшки.
Дома мать уже наготовила миску салата из степных помидоров, с луком, с картошкой, огурцами и постным маслом. Набьешь голодное пузо – и в городской сквер у Дерибасовской. Там летняя эстрада, концерт московских звёзд. Через забор – и на тёплый еще асфальт перед первым рядом: пой, Ружена Сикора, мы здесь. Счастливые, вечно голодные, советские дети пятидесятых, строительный материал коммунизма во всем мире…
Когда умер Сталин, гудели заводы, сигналили автомашины, я стоял, держа руку в пионерском салюте. По маминым щекам текли слезы. Все ожидали конца света. А Юрка Бровкин зло выковыривал глаза на портрете в учебнике. Нам было по тринадцать, мы дружили. До этого дня. До кровавой драки.
Осенняя слякоть, старушка несет с базара в обеих руках кошелку, авоську, бидон с молоком. Помню крышку бидона, нечаянно сброшенную полой пальто прохожего прямо под ноги, в жидкую, чавкающую грязь. Я поднимаю ее, протираю сначала рукавом, потом своей белой рубашкой насухо и прикрываю ею бидон. Смотрю, а старушка плачет, глядя на мои неуклюжие старания. Обожгло меня. И у самого слезы. Что это было? «Стрела добра пронзила его сердце». Из книжки фраза.
Да, мы книжные дети: «Дикая собака Динго», «Голубая чашка», «Тимур и его команда», «Люди с чистой совестью», «Спартак», «Овод», Маяковский… Горьковское «Человек – это звучит гордо!» относилось непосредственно ко мне. И звало куда-то лермонтовское: «А он, мятежный, просит бури…» И что? Прочитанное, услышанное, впитанное живет в какой-то таинственной конфигурации в подсознании, создавая разных мальчишек и девчонок. Я не думал тогда о том, что Юрка Бровкин мог знать то, чего не знал я. Была ведь и другая литература – Замятина, Бердяева, Бунина, Платонова, Набокова… Но спрятанная по спецхранам.
Даже томик Есенина мать выбросила в сердцах с балкона:
Читать дальше