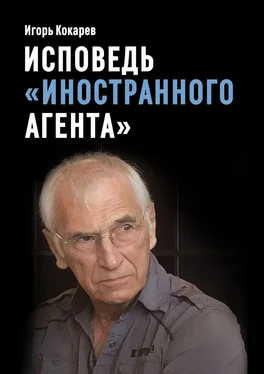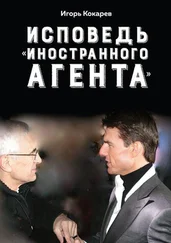Из тех питерских «тунеядцев» нашелся стиляга с правами, говорит, папину машину водил. Теперь у него целый автобус. Ничего, в степи светофоров и гаишников нет, пусть водит. На автобусе ездили на шахты, на стройку, к пастухам, пели песни под гитару, читали стихи Ахмадулиной и Евтушенко, танцевали девчонки «Калинку» в концертном исполнении.
Но главное все же это наши репетиции. Народ подобрался отличный, главное все такие умные, веселые, не хуже, чем в одесском Дворце студентов. Вечером раз девчонка запела так, что воздух степной зазвенел. Высоко уходил звук, к звездам. Да что там столичные… Казах появился среди нас с домрой, кажется. И все обалдели. Так звучали странные, монотонные мелодии. Степь их услышала сразу, а мы, русские, вслед за ней. Здорово, когда душа поет, хоть в степи, хоть в море, хоть в городе. В море, правда, не пелось…
А один стихи стал читать, тихо так, как бы незаметно:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Ну, я вздрогнул. Он глянул на меня, остановился:
– Что, нельзя?
Я просто продолжил:
– Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
Он закончил тихим, глубоким, как будто уходившим в сухую землю под ногами голосом:
– …И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
Тогда-то я и узнал, что как раз в это время двадцатидвухлетнего Иосифа Бродского осудили тоже, как и их, за тунеядство, и сослали. Но не к нам, а на пять лет в Архангельскую область, в глухую деревню.
Мы сидели у общежития всю ночь и говорили, говорили. Водка из горла и обжигавший «Беломор» без фильтра. Были такие папиросы. Пачку за пачкой, не тормозя. После той ночи я и бросил курить… О чем говорили? О Достоевском и Маяковском, о Таганке и Современнике, о том, что такое ложь, и что такое правда, о верности и о предательстве, об идеалах и о будущем, о дружбе и о любви, о своем пути и о смысле жизни здесь и сейчас… Да мало ли о чем можно говорить выпивши, ночью в тысячах километров от всякой цивилизации? Такой был момент истины.
А утром именем комсомола снова шли выбивать у комбината и у Горсовета помещения под библиотеку, под изостудию, требовать открытия еще одного детского садика, музыкальной школы, филиала ВУЗа. Тогда, общаясь с руководством города, мы постепенно поняли, осознали, что старшие товарищи не плохие люди, просто их руками партия продолжает воевать. Не жить, а именно воевать за выполнение своих решений, за перевыполнение планов, требуя беспрекословного подчинения – все, как на войне. А мы хотели мира, любви и радости от труда и жизни. Мы ж свободные люди…

Хорошие люди есть везде. Надо их только найти.
Было мне тогда двадцать четыре года. Еще или уже? Мы сидели у костра, я травил морские байки про Бразилию, Японию, Сингапур, про штормы и штили, про гигантского грифа, залетевшего на нашу палубу с близкого берега Западной Африки, про летающих рыб и жадных акул… Потом кто-то тронет гитарную струну и запоет голосом Булата «Последний троллейбус»… Какие яркие звезды здесь над головой…
Может это и есть счастье? Здесь, с вами, ребята. И такими понятными казались нам слова Назыма Хикмета:
…Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Читать дальше