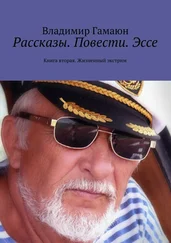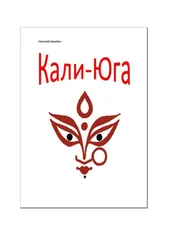Привет, изгнанник славный,
Ты, Данте, лучшим равный,
Ты, Тассо своенравный,
Привет мой шлю я вам!
Мы скоро рядом ляжем,
Друг другу все расскажем,
С улыбкою покажем
Рубцы всех наших ран.
Его неумение оценивать себя, которое столь же велико, как и недостаток самокритичности, исключает для него возможность трезво видеть свое положение. Ему и в голову не приходит, что его сочинения могут быть безынтересны. Он воображает, будто клика политических врагов отечества не может простить ему верность королю и препятствует его продвижению по пути успеха; даже в последние годы жизни он все еще не хочет сдаваться и надеется, как и прежде, «противостоять бурным стремлениям века, наперекор кишащему миру и всей этой суете, которую по недоразумению и по привычке именуют духом времени», — читаем в его автобиографии 1840 года. Впрочем, он только настраивает себя бодро держаться и не сдается больше из упрямства: Фуке чрезмерно страдает от все возрастающего одиночества. Прежние друзья пренебрегли его идеалами, с тем «чтобы вольнее предаваться греховному брюзжанию и раздраженному умничанию» («Пауль Поммер»), и мир не знает благодарности. «У-у! Холодно мне», — читаем в его романе «Беженец» (1824), когда один из героев войны 1813 года предчувствует, что слава военного поэта (хотя б он и оросил золотые струны кровью своего благородного и верного сердца) недолговечна: «У-у! Холодно мне в глубочайших недрах жизни! То ли утренний холод сковывает меня после ночной скачки? То ли это стынет кровь от твоей жутко-леденящей вести о неблагодарном мире?»
Но жизнь готовит ему новые страдания. В «Истории жизни» он пишет:
«Ранним утром июля двадцать первого дня 1831 года пробудился я от сильного удара в дверь и стремительной беготни по дому, столь необычной в эти ранние часы, когда все вокруг еще бывает объято тишиной. Внезапный страх сковал мои члены. Сколько-то мгновений я отважился думать, что меня, постоянно мучимого сонливостью от длительных чтений по ночам, одолел сон и что на дворе уже день, и движение в доме связано, вероятно, с неожиданным приездом гостей, — всего несколько мгновений, не более, ибо через закрытые ставни сверху пробивался тусклый свет занимавшегося утра. С дрожью стал я натягивать на себя платье. Тут дверь стремительно распахивается, и на пороге появляется моя дочь Мария: „Отец! — взывает она прерывающимся от волнения голосом. — Пойдем, отец, матушке плохо!“ И, подавшись вперед, едва не рыдая, торопит, торопит меня: „Скорее, скорее иди, она умирает!“ Я бросился вон из комнаты. Любезная супруга умерла у меня на руках с благословением моим и мольбами. Ни звука не слетело со сладостных губ ее».
В церковной книге Неннхаузена содержится запись о том, что Каролина умерла в возрасте 56 лет 9 месяцев и 14 дней от грудной водянки. Прах ее покоится в парке, «под сенью чудесной дубовой рощи». В эти тягостные дни Фуке сочиняет стихи, названия которым он дает соответственно дням их написания: «В день смерти», «Днем позже», «Накануне погребения», «Немного позже»; несмотря на всю их благочестивую стереотипность, эти стихи дают все же возможность почувствовать боль, которую они должны облегчить ему. Вместе с надгробными словами эти «послания песни и скорби» (начинающиеся впечатляющей строкой «Не беги скорби») переписываются и вручаются «избранному кругу тех», кто «чтил усопшую как одну из остроумнейших и задушевнейших писательниц». То, что Каролина «была и навсегда останется» «духовным центром» семьи, вполне определенно явствует из строк, написанных «скорбящим, но нашедшим утешение в боге» супругом, который наверняка не хотел тем самым сказать, хотя это становится теперь важным моментом, что он был второстепенной фигурой и его терпели только как мужа помещицы.
Хотя он и оговорен в церковной книге и в завещании как наследник наряду с тремя детьми Каролины от первого брака и дочерью от второго брака, доля наследства его ничтожно мала. Помимо 40 талеров в месяц, за ним оставлено право проживать в Неннхаузене на даровщину — при условии, что он не вступает в брак. Но вдовцом он живет недолго, всего два года. Третий брак оказался не более счастливым, чем прежние.
В первые дни его разражается семейный скандал. Наследники Неннхаузена (среди них и дочь Фуке Мария) отрекаются от «теряющего рассудок» отца и отказывают ему от дома. Не потому, что новая жена Фуке Альбертина (домашнее имя Берта, Бертхен) моложе 56-летнего барона на 30 лет, — причина в том, что она была в доме прислужницей (компаньонкой дочери) и родом из бюргерской семьи, дочерью корабельного врача из Барта близ Померании.
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)