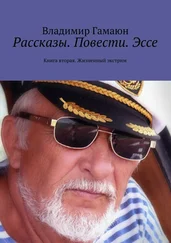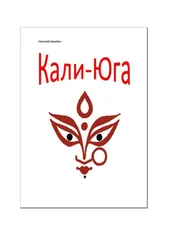— Постойте, — перебил его Кафка. — Легенду эту не я сочинил, это предание. Вы правы, в истории этой царит зло. Но господин Гоголь спросил меня о черте, вот я и рассказал.
— Хотел бы я знать, — проговорил Гоголь задумчиво, — отчего столь велик соблазн показывать зло, даже дьявольщину? Меня вот постоянно этим попрекают. И отчего оно удается лучше и легче, нежели живописание чистоты и добродетели?
— Оттого, верно, — ответил Гофман, — что изображение зла больше трогает сердце и несет утешение.
— Утешение?
— Да, и утешение тоже, — подтвердил Гофман. — Читателю зло знакомо, он со злом, можно сказать, накоротке. И, читая о нем в книге, чувствует, что не одинок в своих бедах. Ему потом легче на душе, как после исповеди. Почему ему хорошо? И отчего среди каменных дев на портале Страсбургского собора, да и на других соборах, злые девы выглядят привлекательней благочестивых? Зло гораздо на ухищрения, оно заманчиво, а добро бесхитростно и способно обольщать только самим собою, но для нас, смертных, это соблазн слабый. Манящий образ чистоты — редкий гость в наших душах.
Гоголь ловил каждое слово.
— Вы тысячу раз правы, — произнес он. — Благородство, чистота — как редко их замечаешь! Оттого и писать о них трудно, во всяком случае мне. Вот Пушкин — тот умел, у него и чистота, и благородство проступают подчас даже в житейской прозе: ну хоть Татьяна в «Онегине», любой ее жест, любое слово. Иное дело — природа, горы и долы — тут я сразу чувствую все, что есть величественного, чистого и прекрасного в моей отчизне.
— И музыка, — добавил Гофман. — В ней тоже величие и чистота в каждом звуке. Наверно, оттого, что звук бесплотен и легко вбирает красоту там, где слово и камень уже бессильны. Но вы, кажется, утверждали, — обратился он к Кафке, — что смысл всякого рассказа можно разгадать уже в языке, каким он написан?
— Да, — подтвердил Кафка. — И всякий смысл требует своего, особого языка. Но и тут я мечусь как неприкаянный между немецким и чешским. Я много у кого учился: и с Гашеком в погребках не однажды беседовал, и с Леви в кафе «Савой»; писателей, особенно русских и немецких, читал запоем, хасидские легенды запоминал. А датчанин Кьеркегор! Читаешь — и завидуешь, даже сквозь перевод чувствуешь: вот у кого единство языка и смысла! Возьмите хотя бы это место из его книги «О равновесии эстетического и нравственного в становлении личности»:
«Друг мой! Снова говорю тебе то, что повторял неустанно. Снова призываю тебя: или — или! Ибо важность дела, о котором идет речь, оправдывает важность слов. Лишь по смехотворной неспособности суждения не замечаем мы подчас, сколь многие вещи подлежат и подчиняются этому принципу: или — или. Но бывает и по-другому: иной человек слишком слаб, чтобы суметь со всею торжественностью сказать: или — или. А на меня эти слова всегда производили глубокое действие и поныне производят. Стоит мне произнести их даже вне всякой связи — и тотчас же в воображении встают неодолимые противоречия. Слова эти звучат для меня как формула заклятья: или — или».
Кафка говорил тихо, но подчеркивал ритм движением руки, словно невидимым молотком забивал невидимый гвоздь.
— А по-моему, в финале «Мертвых душ» — вот где единство слова и смысла доведено почти до полного совершенства, — сказал Гофман.
— То, что вы называете финалом, вскорости будет серединой, — пообещал Гоголь.
«Надеюсь, нет», — мысленно возразил Гофман, а Кафка подумал: «Может, для искусства даже лучше, что ты сожжешь прицепленный, нравоучительный конец. Тогда по крайней мере то, что ты сейчас выдаешь за середину, навсегда останется великим завершением».
— Прошу вас, дорогой Гоголь, прочтите это место! — попросил Гофман. — Вот французское издание, переведите нам.
Оказалось, Гоголь помнит текст почти наизусть и, не слишком жалуя переводы, всегда читает его по-русски:
— «Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: „Черт побери все!“ — его ли душе не любить ее?.. Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эй, тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи… Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?.. Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху… Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле…»
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)