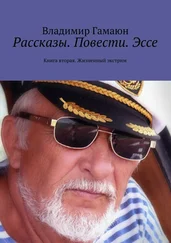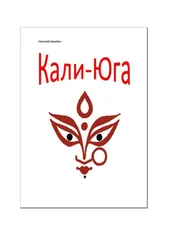— Добрый день, хозяйка, нижайший вам поклон, — кричу я. — Мне бы совочек угля, всего один, прямо сюда, вот ведро. Только один совок, хоть самого никудышного. Вы не сомневайтесь, я заплачу, обязательно заплачу, только не сразу, не сейчас.
Каким нежным колокольчатым переливом отзываются вдали эти слова — „не сразу, не сейчас“, и как внезапно вторят им в тот же миг вечерним звоном колокола соседней церкви!
— Что там ему нужно? — кричит снизу угольщик.
— Ничего, — отвечает ему жена. — Нет тут никого. Никого я не вижу и ничего не слышу.
Она никого не видит и ничего не слышит! Тогда зачем же она развязывает фартук и машет им, пытаясь отогнать меня, словно назойливую муху? Увы, ей это вполне удается. У ведрышка моего все повадки лихого скакуна, да вот беда — устойчивости никакой, очень уж оно легкое. Один взмах фартуком — и земля уходит у нас из-под ног.
— У-у, ведьма! — успеваю я крикнуть ей, на что она, уже с порога, даже не обернувшись, лишь отмахивается, то ли презрительно, то ли удовлетворенно. — Ведьма! Я просил один совок самого никудышного угля, а тебе и этого жалко!
Но подо мной уже только льдистые вершины, и я лечу, лечу в безвозвратность».
Гофман и Гоголь не проронили ни слова. Рассказ сильно подействовал на обоих, и похвала сейчас прозвучала бы неуместно.
Очень тихо, щадя голос, Кафка сказал:
— С той проклятой зимы, когда мой наездник на ведре тщетно рыскал по городу, выпрашивая совочек угля, меня сковал страх, страх смерти. Рушилась империя Габсбургов — а я думал только о себе. Масарик въехал в Градчаны — а я думал только о себе. Вокруг бушевали революции — а я думал только о себе. Возможно, рассказ мой и неплох. Но ему далеко до гоголевской «Шинели», где так головокружительно разверзается пропасть между богатыми и бедными.
— Я и сам думаю, что история моя хороша, — произнес Гоголь. — Но и ваша мне нравится. Пропасть, как вы ее называете, есть в обеих вещах, если их вообще можно сравнивать. У меня ведь скачок в невероятное в самом конце, а вы сразу с этого начинаете. Но и тут, и там происходит очная ставка несправедливости и правды. Знаете, школяром я, как губка, впитывал все, что говорили о декабристах. После, уже став писателем, я вовсе не имел намерений судить о правде и неправде, о бедности и богатстве: оно само как-то получается, когда пишешь о жизни правдиво.
«Это на словах, — подумал Гофман. — А на деле ты даже не отваживаешься встретиться с Белинским, твоим учителем, твоим другом. Боишься, как бы тебя не заметил с ним кто-нибудь из знатных господ, новых твоих приятелей».
— Заклинаю вас, — обратился он к Гоголю, — не меняйте ничего в ваших «Мертвых душах», в них на века запечатлена правда о том, как жили люди при крепостном праве.
— Не знаю, не знаю, — проговорил Гоголь. — Многие стали величать меня «злопыхателем». Пушкиным попрекают: у него, видите ли, язвительность никогда не вытесняла поэзии. Вот и мой французский друг Мериме в отличие от вас нашел книгу отнюдь не такой сильной. На его взгляд, я не делаю различий между низким и смешным. У меня, мол, нездоровое пристрастие изображать мир в черном цвете, видеть прежде всего плохое.
— Наверняка он говорил это в другом смысле, чем ваш духовник.
— О, этот упрек мне знаком, — тихо сказал Кафка. — Я, мол, стремлюсь изображать только плохое. Необъяснимое, гнетущее, рок — да, но только плохое — нет. — Голос его зазвучал отчетливей. — У меня есть одна история, там молодой человек по имени Замза превращается в жука. Все возмущаются, все шокированы: «Какие ужасы вы описываете!» А я ведь только одно хотел показать — что будет с моими современниками, случись сегодня какое-нибудь чудо из сказок братьев Гримм; помните, лягушачий король поселяется в замке, и королевская дочь должна делить с ним и еду, и постель. Люблю сказки братьев Гримм. Их язык многому меня научил. Не скрою, иногда и смысл, и ритм целых фраз я брал оттуда. Какое это чудо, какая загадка — язык! Ведь если послушать, чего только люди с языком не делают: и лгут, и всякий вздор болтают, и сплетничают, и тараторят, а ему все нипочем, вот какая это сила — язык! В одной хасидской легенде сказано: «кто молвит слово от бога, остается в этом слове навсегда». По-моему, в ином слове не то что человек — целый народ может уместиться.
— Святая правда, — поддержал Гоголь, — У нас есть слова, в которых живет душа русского народа. Услышишь такое словцо или присказку, и сразу чувствуешь — тут тебе и весь Пушкин, и весь Лермонтов.
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)