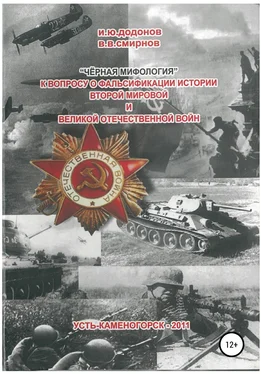По-существу, слова Сталина были ответом на выступление начальника диверсионного отдела «А» ГРУ полковника Мамсурова, упоминаемое нами выше, в котором руководство страны призывалось вновь активизировать работу по линии «Д». Как видим, руководство, тем не менее, решило, что партизанские и диверсионные действия не являются приоритетными для РККА; не от них зависит ее боеспособность, а, следовательно, и обороноспособность страны. Это не означало, что от партизанства отказались. Просто было решено, что партизанство – дело хорошее, но не первостепенное. И такое отношение сложилось не в конце 1939-начале 1940 года. Даже из речи Х-У. Д. Мамсурова можно понять,
____________________________________________________
воспроизведенную нами частично речь можно вставить подобные слова. Они попросту выпадут из контекста. К.Е. Ворошилов-то как раз ратует за механизацию, доволен её большим масштабом, призывает и дальше ее наращивать (в выпущенных по смысловым соображениям (не совсем подходят к теме раздела) участках речи нарком обороны указывает на необходимость дальнейшего развития химической отрасли, моторостроения, средств связи). Между тем, К.Е.Ворошилов действительно говорил о «вредительских теориях о замене лошади машиной» . Однако делал он это в той части своей речи, которая была посвящена… сельскому хозяйству. Процитируем:
«Конское поголовье продолжает всё ещё сокращаться. Где причина, в чём дело? Мне думается, что, помимо вредительской деятельности контрреволюционных элементов на селе, немалая доля вины лежит на работниках системы Наркомзема, одно время благожелательно относившихся к прямо-таки вредительской «теории» о том, что механизация сельского хозяйства, внедрение тракторов и комбайнов заменят лошадь, а в ближайшем будущем и полностью освободят от необходимости использования тягловой силы в сельском хозяйстве. Между тем, ясно, что лошадь в нашей стране сейчас и в дальнейшем будет крайне необходима и нужна, как она была нужна и раньше, когда у нас было мало тракторов. Лошадь не только не противостоит трактору, не конкурирует с ним, но, наоборот, его во многом дополняет, ему помогает» [63; 93-94].
После этого нарком обороны и произнес столь «полюбившуюся» «демократическим правдоискателям» фразу:
«Что это значит? А то, что за лошадь, её сохранение и воспроизводство надо взяться по-настоящему. Необходимо, прежде всего, раз и навсегда покончить с вредительскими «теориями» о замене лошади машиной, об отмирании лошади. Необходимо раз и навсегда покончить с обезличкой в использовании коня. На местах, в передовых колхозах, в МТС накоплено немало ценного опыта, который Наркомзему не мешало бы учесть, обобщить и распространить по всей стране» [63; 94].
Вот такого рода «правдой» «кормят» нас на протяжении более двух десятилетий господа «демократы».
что произошло это гораздо раньше, ибо он призывал, по сути, к возрождению того, что уже раньше у нас было, но к концу 1939 года, в значительной степени, перестало существовать.
Как справедливо замечает белорусский историк А.К. Соловьев, руководство страны исходило из того, «что основная масса руководителей партизанского движения при необходимости может готовиться в начале войны. На этот же период откладывались и основные мероприятия по организации партизанских штабов, и непосредственный подбор и формирование ими партизанских групп и отрядов, в том числе подразделений специального назначения органов госбезопасности» [26; 329]. Другими словами, считалось, что при неблагоприятном развитии ситуации время на проведение оргмероприятий для развёртывания партизанских действий у нас будет.
Наконец, обратимся к тезису Резуна о совершенстве и эффективности системы партизанской войны, созданной в конце 20-х – середине 30-х годов, в обеспечении обороноспособности СССР. Мы не будем спорить с тем, что эта система была бы чрезвычайно эффективна, рассчитывай Советский Союз вести войну посредством пассивной обороны. Однако, как мы убедились, предвоенные советские планы предусматривали активную оборону, т.е. вторгшийся враг отбрасывался от наших границ, а дальше Красная Армия, наступая, громила противника на его собственной территории. Для такого сценария развития событий партизаны, и впрямь, не нужны. Диверсанты – другое дело. Но всё это не говорит о желании развязать агрессию самому.
Если же обратиться конкретно к реалиям 1941 года, то мобилизационные и оперативные планы действий партизанских формирований, разработанные в начале 30-х годов, к этому времени безнадежно устарели. «Когда в 1941 году мы с участием С. Ваупшасова, Н. Прокопюка, К.Орловского проанализировали эти планы, то оказалось, что они были совершенно неадекватными обстановке, которая сложилась к тому времени» , – вспоминал впоследствии П.А. Судоплатов [26; 340-341].
Читать дальше