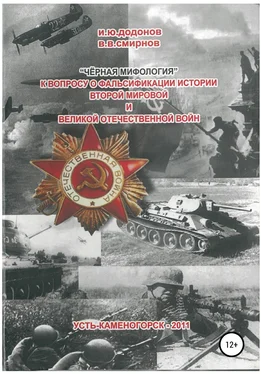«Именно в столице (в 1933 году И.Г.Старинов был переведен в центральный аппарат Разведупра – И.Д., В.С.) я вдруг обнаружил, что подготовка к будущей партизанской борьбе не расширяется, а постепенно консервируется. Попытки говорить на эту тему с начальником моего отдела Сахновской ни к чему не приводили. Она осаживала меня, заявляя, что суть дела теперь не в подготовке партизанских кадров, что их уже достаточно, а в организационном закреплении проделанной работы. Нерешенных организационных вопросов действительно накопилось множество. Но решали их не в нашем управлении» [26; 326].
А вот что пишет еще один ветеран диверсионной работы А.К. Спрогис:
«В результате неудобств, неувязок, нечуткого (если не сказать хуже) отношения руководителей… все представители этих отделений старались уйти с этой работы. В течение небольшого промежутка времени с этой работы ушло 75% состава, хотя пришли все на добровольных началах, охотно…
Наша работа стала считаться второстепенной. Наши работники использовались не по прямому назначению: производство обысков, арест, конвоирование арестованных, нагрузка дежурствами и т.д. и т.п. Это была система, продолжавшаяся из года в год. Нетрудно понять, что это отражалось в аттестации по присвоению званий…
До 1937 г. систематически из года в год уменьшались средства, отпускаемые на работу «Д». Она свертывалась (выделено нами – И.Д., В.С.) » [ 26; 326-327].
И.Г. Старинов прямо указывает на срок, когда работа по линии «Д» начала сворачиваться – 1933 или 1934 год. А.К. Спрогис утверждает, что этот процесс шел до 1937 уже несколько лет, т.е. И.Г. Старинову ничуть не противоречит. В этот период партизан перестали привлекать к общевойсковым учениям. Резко сократился обучаемый контингент в специальных школах, некоторые школы были расформированы. Рядовых партизан, проходивших подготовку в спецшколах и впоследствии легализованных в приграничных районах, попросту «забыли», т.е. не использовали вообще [26; 341, 327].
Слова А.К. Спрогиса подводят нас к еще одному тезису Резуна: кадры партизан после разгона партизанских отрядов, «предназначенных для действия на своей территории» [82;109] , направлялись в ВДВ, Осназ НКВД и небольшие диверсионные группы, собиравшиеся на границе с Германией и ее союзниками (речь идет о событиях, начавшихся, по Резуну, с осени 1939 года).
Так вот, подобное утверждение Резуна, является несоответствующим действительности.
Из слов А.К. Спрогиса видно, что отделы ОГПУ-НКВД, занимавшиеся работой по линии «Д», лишились в течение нескольких лет до 1937 года 75% своего состава. Т.е. к 1939 году еще и не подошли, а ¾ партизан и диверсантов своим прямым делом уже не занимаются.
Не лишне будет вспомнить, что «кадровых» партизан и диверсантов в стране было 150-200 человек. Однако это число, по утверждению А. Дюкова, включает и комсостав партизанских отрядов и групп. Если же вычленить из него всех тех, кто занимался работой по линии «Д» профессионально, т.е. организовывал, преподавал, инструктировал, а не прошел подготовку и был «законсервирован», то мы получим не более 70-80 человек [26; 333].
А. Дюков достаточно подробно изучил судьбу значительной части представителей этой немногочисленной группы [26; 333-334]. Он вполне авторитетно заявляет, что ни в ВДВ, ни в Осназ НКВД советские «кадровые» партизаны- диверсанты не направлялись [26; 341]. На территорию потенциального противника их также не забрасывали, и никаких групп в приграничных районах из них не сколачивали [26; 341].
Чем же они занимались?
Часть вспоминает о своих «смежных» специальностях. Дело в том, что после прекращения активной разведки в середине 20-х годов многие бойцы и командиры разведывательных групп стали студентами ВУЗов, служащими контор и трестов, работниками органов ГПУ [26;311]. В 1936 году мы видим С.А. Ваупшасова и К.П. Орловского в системе ГУЛАГа, военинженера И.Г. Старинова – на непрофильной для него должности заместителя военного коменданта станции Ленинград-Московский.
Часть «кадровых» диверсантов угодила под молох репрессий. Впрочем, таких было относительно немного (по подсчетам А.Дюкова, подробно изучившего жизненный путь 41 профессионального работника по линии «Д», около 7% от общего числа) [26; 339]. Были расстреляны М.Ф. Сахновская, Х.И. Салнынь, Г.С. Сыроежкин [26; 337-338]. Арестовали, судили и приговорили к высшей мере наказания начальника Особой группы ОГПУ- НКВД СССР Я.И. Серебрянского. Но приговор в исполнение не привели, а в августе 1941 года Я.И. Серебрянского амнистировали.
Читать дальше