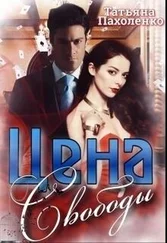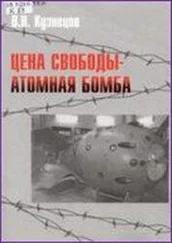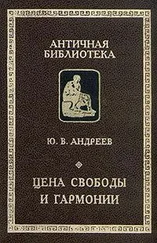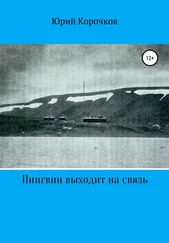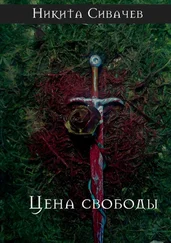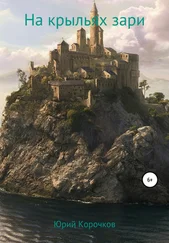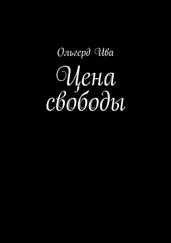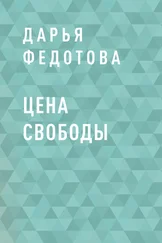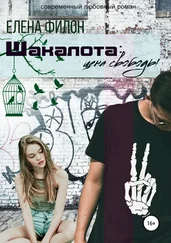Добрались мы до почтовой станции Сибо, на станции чистенько, ухожено, не то что на наших, вот только хозяин, скотина, ни слова по-русски то ли не понимает, то ли не хочет говорить. Заходим в горницу и видим несчастного поручика Закревского, уже отчаявшегося добиться от истукана-смотрителя хоть слова. Обрадовался он нам, как родным, хоть тогда мы ещё и не были знакомы, посидели, отогрелись с дороги, перекусили, выпили по чарочке, как водится, да и поехали догонять армию вместе.
Погода улучшилась, и скоро мы были в Гельсингфорсе, а там, только представьте, сидит не кто иной, как Буксгевден. По-хорошему, его после Аустерлица гнать взашей в родные Силезию или Англию! А этого надменного индюка, высокомерно отказавшегося от имперского гражданства, на которое «он, слава Богу, не обязан менять своё, чтимое им английское», снова поставили руководить войсками.
Вообще же, армия наша была сильна. В Финляндию вступили три дивизии: 5, 17 и 21-я. Первой командовал Тучков, второй граф Каменский и третьей князь Багратион. Однако Буксгевден никаких действий не предпринимал: видимо ждал, пока застигнутые врасплох шведы соберутся с силами и сами ударят по нашим войскам. Багратион продвигался на Тавастгус и Або, а я, так и не дождавшись всё откладывавшегося штурма Свеаборга, поспешил за моим генералом. Но и в Або ничто не напоминало о войне! Горожане, сперва встретившие нас со страхом и недоверием, вскоре убедились, что бояться им нечего. От Буксгевдена поступил приказ прекратить наступление и оставаться на неопределённое время в Або, так что ничего, кроме бесконечных балов, мне и тут не светило. После двух скучнейших недель я запросился на север, где ещё пахло жжёным порохом.
На севере, в Вазе, действовал со своим отрядом мой двоюродный брат Николай Раевский, который сперва попытался заткнуть мной дырку в собственном штабе, но после согласился и отпустил в свой авангард, к моему давнему знакомому Якову Петровичу Кульнёву. Вот там-то уж действительно было по мне – что ни день, то схватка! Догнать авангард мне удалось только в маленьком, за два часа до того с налёту занятом городке. Лучшие дома были по обыкновению отданы раненым и тем господам офицерам, которые, привыкнув к комфорту, испытывают нужду в походной жизни. Якова же Петровича я нашёл в бедняцкой хибаре на окраине с той стороны, откуда ожидался неприятель. Поздоровались мы с ним, обнялись по-дружески, да и говорю я ему, мол в Або сейчас только балы гремят, так не примешь ли ты меня, брат, к себе пороху понюхать. А он и рад, отвечает, что балы и у него громкие, только свойству немного иного: под картечную музыку только успевай кружиться.
Положение, как я уже и сам успел убедиться, было невесёлым. Осёл Буксгевден вместо того, чтобы громить шведскую армию, стремился захватить побольше территории, за что его, видимо, хвалили в Петербурге. В результате силы дробились на множество мельчайших отрядов и гарнизонов, отрезанных при полнейшем бездорожье друг от друга и от снабжения в только что завоёванной стране с неразбитой армией и враждебно настроенным населением. В то же время шведы непрерывно получали пополнения, а в прибрежной полосе начали появляться уже и чисто финские отряды, доставляющие трудности в снабжении нашим гарнизонам.
Весь март прошёл в стычках со шведами. Мы с Кульнёвым были неразлучны: жили всегда вместе, как случалось, то в одной горнице, то в одном балагане, то у одного куреня под крышею неба, ели из одного котла, пили из одной фляжки. Нас ждали в одном месте, а мы появлялись в другом. Чтобы ускорить продвижение, передвигались мы на лыжах, а единственную свою пушку возили на санях. Но сколько верёвочке ни виться…
Первого апреля после фланговых поисков мы круто повернули на север к Улеаборгу, и почти сразу у деревушки Кулайоки сшиблись со Шведами, которые, в отличие от предыдущих, не спешили к ретираде. Уже тогда Кульнёв сказал мне, что «не иначе чуют у себя за спиной серьёзную силу», но прекращать наступление нельзя, чтоб нашу слабость не почуяли. И мы продолжили наступление. Через три дня впервые дело дошло и до штыков, а в сем виде оружия нашему солдату никто противостоять не может, кроме, как я тогда убедился, шведов. И что же! Ещё через три дня обнаружили мы крупный шведский отряд и решили, конечно, атаковать. Пехоту и артиллерию двинули через лес большою дорогою, а два эскадрона гродненских гусар и две сотни казаков под командою лихого майора Силина двинулись в обход, прямо по льду Ботнического залива. Расчёт оправдал себя. Разбуженные пальбой со всех сторон шведы переполошились и сами выкатились под нашу картечь. К рассвету огромный лагерь с пушками, припасами и большим количеством пленных был нашим. Ушли только ниландские драгуны, устремившиеся к берегу, но там, на льду залива, их уже ждали казаки и гусары майора Силина, так что пришлось и им капитулировать, отдав нам весьма ценный трофей в виде пытавшегося бежать шведского генерала Левельгельма, личного адъютанта короля, недавно прибывшего отправлять должность начальника штаба шведской армии. Штаб взяли там же, вместе с начальником. Трофеи отправили к наконец то выступившему вслед за нами из Вазы генералу Раевскому, а сами продолжили наступление.
Читать дальше