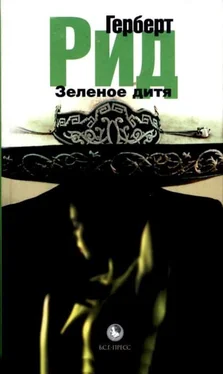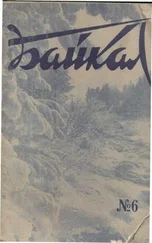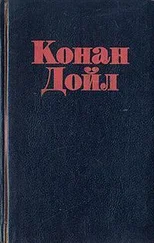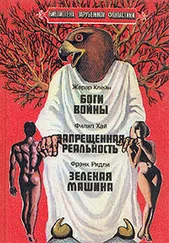А потом произошли два события, заставившие его на какое-то время забыть о Веточке. Умер отец; мельничное хозяйство продолжало идти в гору, требуя все больше времени и сил. Второй случай не делал Коленшо чести. Как-то жарким днем заглянул он в открытую дверь амбара, где хранили сено, — там, разметавшись, разморившись от летней духоты, спала служанка. Она лежала навзничь, юбка задралась, открывая полные белые ляжки. Желание захлестнуло Коленшо, девушка не сопротивлялась; так с той поры и повелось — свои естественные потребности он полностью удовлетворял, пользуясь ласками существа, находившегося у него в подчинении.
При этом он вовсе не охладел к Веточке. Его по-прежнему к ней тянуло, хотя объяснить, как и почему, он, пожалуй, не смог бы. То ли его манило ее тело — он чувствовал, что оно скрывало какую-то тайну, обещавшую одарить совсем иной любовью; то ли он был очарован ее простотой и непосредственностью, — трудно сказать. Оливеро так и не смог добиться от Коленшо внятного ответа на вопрос о том, как долго тот пребывал в состояния обожания по отношению к Веточке, а сам Коленшо, понятное дело, не хотел ему открыться. Так что Оливеро не мог не признать, что Коленшо, с виду такой простой, на самом деле оказался скрытным и сложным и несколько сбил его с толку, притом, что опыта знакомства с разными человеческими типами Оливеро было не занимать. Он прекрасно понимал, что первобытные инстинкты у Коленшо развиты намного сильнее, чем привычка к цивилизованной жизни, но из этого вовсе не следовало, что Коленшо груб и безволен. Вспомним изощренные системы табу у диких племен: по ним видно, что развитие цивилизованного образа жизни отнюдь не является движением от простого к сложному, от грубого к утонченному, от естественных повадок к искусственно выработанным нормам поведения. Общая сумма притворства, как сказали бы сегодня, во все времена оставалась неизменной, — менялись лишь ее составляющие и их определения. Движение же от изощренности к простоте, несомненно, требует нечеловеческой материи, в чем и предстояло убедиться Оливеро.
Уважительное отношение Коленшо сохранял около десяти лет. Но к концу этого срока ежедневное общение, видимо, притупило в нем инстинктивный страх (ибо за обожанием, конечно, стояло чувство страха), а встречи со служанкой потеряли остроту и перестали его удовлетворять. Скорее всего, тогда же, за несколько лет до возвращения Оливеро, Коленшо начал истязать Веточку. Он часто запирал ее наверху, в спальне, оправдывая эту меру тем, что ей не следует гулять где попало. Если бы ему только удалось приучить ее спать и принимать пищу в положенное время, она наверняка стала бы больше походить на человека и сделалась бы сговорчивей. Поначалу она сбегала, — выпрыгивала через окно; потом, когда этот выход заколотили, стала лазать в трубу, благо отверстие позволяло, — она была тоненькая и верткая, как ящерица. Она теперь подолгу пропадала, но забредать далеко не решалась, и Коленшо каждый раз отыскивал ее на вересковой пустоши: натаскает папоротника, сложит у пригорка, свернется калачиком и дремлет. Там Коленшо и обнаруживал ее, вконец одичавшую, едва живую.
Но ему и этого было мало. Ему бы радоваться, что Веточка нашлась, а он, наоборот, устроил На чердаке тюремную камеру. Ее перестали выпускать, только регулярно приносили еду: воду, молоко, лечебные травы, кресс-салат и холодную рыбу — все, как она любила. А она, хоть и ела, таяла на глазах. Однажды, под вечер, они со служанкой услышали, как пленница изо всех сил бьет кулачонками в доски, которыми Коленшо заколотил чердачное окно. Поднялись наверх, а она лежит без сознания, — обессилела, бедная. Коленшо встревожился, поднял ее на руки, — легкую и хрупкую, как перышко, — понес вниз и положил на диван в комнате, которую они называли гостиной. Тут только он заметил, как она переменилась, и ему стало страшно: прежде ее кожа цветом напоминала зеленый, светящийся изнутри плод, а теперь она стала матовой с желтым отливом, как бока переспелых слив. Блеск в глазах пропал, дыхания почти не ощущалось. Она долго лежала без движения: в открытое окно прямо на нее падали лучи заходящего солнца, лаская ее и обогревая. Той ночью Коленшо не стал забирать ее наверх, оставил лежать на диване, а когда наутро спустился, то увидел, что она стоит во весь рост в оконном проеме, зияющем, словно бойница, и купается в лучах восходящего солнца. Кожа ее снова засветилась, как прежде, в тот день она первый раз за долгое время поела, и постепенно к ней вернулись силы. Больше на чердак она не возвращалась.
Читать дальше