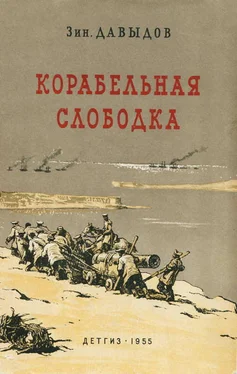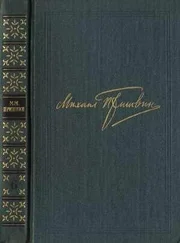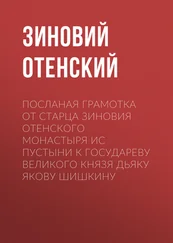«Хорошее начальство — поручик Юньев Михаил Павлович», — подумал опять Иголкин и, оглянувшись еще раз, увидел, что француз поспевает позади всех, не отстает голенастый, чешет как ни в чем не бывало.
Так добежали они до Екатерининской площади, где путь им преградила сплошная стена огня. Иголкин, не мешкая ни минуты, нисколько не раздумывая, с разбегу ринулся в огонь и продрался через него, как сквозь колючий кустарник. И перед Иголкиным сразу открылась Большая бухта с баркасами и паромами, а за бухтой — Северная сторона… А там, от Северной, все дороги вели в Большую Россию, где Иванов не счесть, где Рязань и Казань, и Уральские горы, и Балтийское море!
Это придало Иголкину силы. Обожженный, истерзанный, но несокрушимо живой, он вьюном завился на площадке пристани перед балюстрадой, потрясая кулаками.
— Братцы-ы, ребятушки-и! — вопил он, корчась от боли. — Ребятушки-и-и!
Ермолай Макарыч, ездовой солдат из артиллерийского обоза, первый услышал этот крик. А теперь Ермолай Макарыч был в полном восторге от новой неожиданной встречи с Иголкиным. Истинно молвил Иголкин Ильич еще год тому назад, за Кадыкоем, под самою под Балаклавой. «Гора, — сказал, — не сойдется с горой, а человек с человеком, глянь, и встретились».
Но и эта встреча была им, увы, ненадолго.
— Эх, время нету, — вздыхал Иголкин, поплевывая на свои ожоги. — Я бы тебе порассказал, браток!
И верно: времени для приятного разговора было в обрез. И начинать не стоило!
Паром зачалился за сваи у Михайловской батареи, и друзьям пришлось расстаться.
Ездовой погнал куда-то к Волоховой башне сгружать свои ящики. Юньев, уводя с собой француза, поплелся с ним разыскивать штаб. А все четыре Ивана, словно сговорившись, привалились к стенке батареи и заснули до побудки. Елисей Белянкин, сидевший тут же, не обратил на них никакого внимания. Всякий делал теперь, что считал нужным: кто спал, кто бодрствовал; кто песни пел, кто слезы лил.
Скоро к Михайловской батарее подошла вся семья Спилиоти. Старый Христофор со своим костылем, Жора и Кирилл и Зоя… Они примостились подле Белянкиных на камнях и молча смотрели, как кончался Севастополь. И Даша подошла с Успенским, и Николкина мать прибрела откуда-то и, плача, стала гладить свалявшиеся волосы на голове у Николки. А Николка все спал, обхватив свою мортирку, которую обглядывали и ощупывали Жора с Мишуком.
Первым нарушил молчание Христофор Спилиоти.
— Умер, — сказал он, глядя на дым, который разостлался над Городской стороной белым покровом.
— Кто умер? — спросил Успенский.
Христофор не ответил, а только кивнул головою к Городской стороне.
— Севастополь умер? — сказал Успенский. — Не умер и не умрет. Жив будет, но уже другой. И другая теперь будет Россия.
— Какая другая? — спросил Елисей.
— Неодолимой была, неодолимой и останется, — сказал Успенский. — А жить, Елисей Кузьмич, станет хоть сколько-нибудь краше. Стыдное дело, чтобы человек у человека был рабом. Первое, не станет больше на Руси крепостных рабов. Десятка лет не пройдет…
— А разве это можно? — удивился Елисей.
— Можно, — ответил Успенский. — И не такое еще можно. Видишь, горит? — И Успенский показал пальцем на Корабельную сторону.
— Горит, — подтвердил Елисей. — Наша, Корабельная… Вишь, как полыхает! Уже на батарее занялось…
Широкая лента пламени вдоль верхнего карниза Павловской батареи была в непрестанном движении. Огонь, как ржавой пилой, вгрызался гигантскими зубцами в раскаленную кровлю.
— Да, — заметил Успенский. — Шибко пошло. Далеко, брат, видно при таком огне. Всю Россию видно: рабство, нищета, бездорожье, неправда… Все теперь, как на ладони, обозначилось. Пришла пора, переделается все…
А на Северной стороне, около Михайловской батареи, уже кишмя кишело. Солдаты, ополченцы, женщины с узлами, сбитенщики с самоварами… Два молодых матроса хлебнули где-то в харчевом балагане лишнюю чарку и шли обнявшись, напевая:
Моя головушка бездольная,
Забубенная хмельна…
Они остановились против Елисея и Успенского, улыбаясь, с затуманенными глазами, и затянули во весь голос:
Прощай, слободка Корабельная,
Да-эх, родимая сторона!
И пошли дальше, распевая и покачиваясь.
Николка проснулся. Мать купила ему крендель и кружку горячего сбитня, и Николка молча завтракал, не обращая внимания на Жору с Мишуком, которые прилипли к его мортирке. На груди у Николки тускло поблескивали крест и медаль.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу