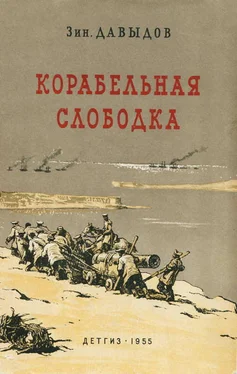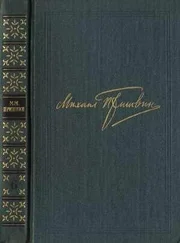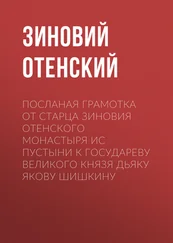И пошла тогда Добрая партия по Корабельной слободке расправу делать по заслугам, всем сестрам по серьгам. Убили в слободке, кроме полковника Воробьева, еще чумного комиссара Степанова. Хотели убить корабельского попа Федора Кузьменку — очень опалился на него народ за то, что шпионит в слободке, с «голубыми» чаи распивает и обо всем им доносит. Раз пять приходили за попом за Кузьменкой. Сколько ни искали, найти не смогли. А спрятался поп в церкви, в тайнике.
Еще тоже был от тех, что в Доброй партии, приказ — лавочника Попова заколоть штыками. Однако помиловали, пустили жить.
А и на Городской стороне народ в тот день творил расправу, и пошло по всему Севастополю. Все, у кого рыльце в пуху, попрятались; а из полиции, так те чисто все разбежались, они первые убежали, а то не сносить бы головы ни полицмейстеру, ни последнему десятнику.
И, не найдя никого, разорял народ дома: крушили у адмиралов и у генералов, и у провиантских, и у купцов. А грабить ничего не грабили и не давали грабить никому. А кто грабил, так с теми была от Доброй партии расправа: секли розгами и плетьми пороли, а награбленное отбирали и относили туда, откуда взято.
Солдаты все были с народом заодно. Имея ружья заряженными, ни в кого не стреляли.
— В кого стрелять? — говорили они офицерам. — Мы здесь турок не видим. Красных фесок тут нет, чтобы стрелять.
На другой день по требованию Доброй партии комендант города Турчанинов приказал карантин в Севастополе повсюду снять.
А уже курьеры скакали из Севастополя в Петербург к царю к Николаю с чрезвычайной и неимоверной вестью о возмущении севастопольского народа. И поскакали курьеры из Петербурга обратно в Севастополь — что ни день, то фельдъегерь с валдайским колокольчиком под дугой и кожаной сумкой на груди. А в сумке — всё указы, всё указы, высочайшие его императорского величества указы хватать, тащить, казнить, не миловать. Ибо претензии жителей царь признал неуважительными и определил оставить их без внимания.
После этого стали у нас в Корабельной слободке хватать кого попало, правого и виноватого; нахватали сотни людей, потащили их в укрепление на Северной стороне и бросили в казематы. Уже 11 августа полицейские десятники рыскали в Корабельной слободке по хатам, сгоняя народ, дабы все видели казнь. А казнили через расстреляние семь человек из Доброй партии, и среди них наши корабельцы Тимофей Иванов и яличник Шкуропелов. Не было им милости от царя ни до того, ни теперь: ни жить не жили, ни умереть по-людски не умерли.
И потом пошли в ход шпицрутены.
Попряталась наша беднота по запечьям; в норы, как мыши, забились. А по всему Севастополю, в гробовой тишине, только и слышно: «ать, два… ать, два…»; барабаны бьют, и прутья свищут, и брызжет кровь.
Пятьсот человек солдат выстроились улицей, в две шеренги, и у каждого солдата в руке длинный, толстый прут.
— А ну, разомнись! — кричат офицеры, пробегая позади шеренги. — Сейчас поведут. С замахом, с замахом бей!
Из матросов 29-го экипажа по жребию каждому десятому определили шпицрутены и прогнали шесть раз сквозь строй в пятьсот человек. Но мало кто дожил до шестого раза. А дожил, так уж после шестого богу душу отдал. Всех остальных из 29-го экипажа — на пять лет в каторжную работу.
Понахватали тоже и женщин в слободке. Кому кнут и каторга, кого из Севастополя в Архангельск, от теплого моря к студеному. Схвачены сотни и сотни матросок и мещанок простых, с детьми и без детей… Никто не разбирался. Ах, где было найти правду! У царя, говорили, запрятана правда за семью печатями и семьюдесятью семью замками. И таковых мужчин и женщин всего было — казненных и через шпицрутены умученных и на каторгу угнанных, и на Белое море, и в Полесские болота, — всего было тысяча пятьсот восемьдесят человек флотских, и армейских, и гражданских, разных народов люди — из русских, из евреев, из греков, из иных.
И повелел государь император срыть Корабельную нашу слободку с лица земли, чтобы стало место пусто и беспамятно, не осталось ни названия, ни воспоминания. Однако передумал государь, опасаясь, как бы такое разорение не пришлось казне в убыток.
Уцелела Корабельная, но пусто стало, малолюдно стало. Хоть не срыли, а беспамятно стало, забываться стало. Ибо от полиции и от «голубых» было тайно объявлено каждому, что есть наказ царский наистрожайший: считать все бывшее в Севастополе не бывшим.
Потекло время, пришли в Корабельную слободку новые поселенцы и народились новые люди. При Лазареве, и при Корнилове, и при Нахимове стало сколько-нибудь по-иному. А о том, что было на месте этом раньше, кому печаль?
Читать дальше