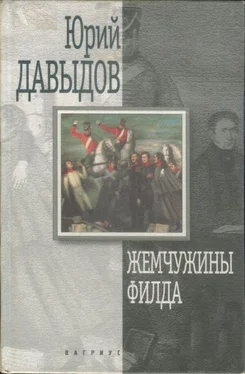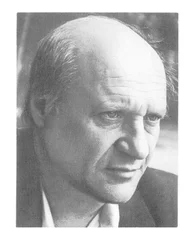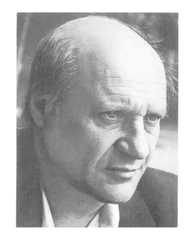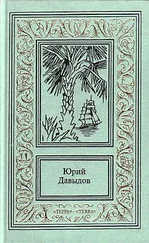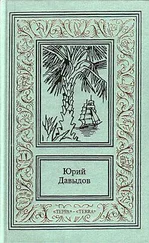Был Соломон из Плонска допрошен дважды или трижды. Все уложилось в один лист почти без вариаций. Мы этот лист включаем в следственное дело как проявленье сионизма в чистом виде.
— С какою целью ты ездил в Иерусалим?
— Молиться.
— Что видел достойного вниманья?
— Иерусалим.
— Поехал бы еще?
— Да.
— Зачем?
— Чтобы умереть там и приложиться к предкам.
— Зачем же ты вернулся?
— Затем, чтоб деньги собирать на Храм.
— Когда евреи ожидают пришествие Мессии?
— Мессия может к нам явиться в любой день.
— Какими средствами евреи приблизят этот день?
— Молитвой.
— Надеются ли евреи только на молитву?
— Пророчество должно исполниться.
Вот все, что он сказал. Приходится признать, жандармы не владели методикой допросов. Попробовал бы дурака валять в прекраснейшей из цитаделей — Лефортовской. Там приводили таких вот соломонов к знаменателю. Хорош был подполковник Б. (Прошу не смешивать с губернским Беком.) Он ныне, к сожалению, на пенсии. Не демократ, само собой, но горой стоит за демос. Ругает рыночные отношения и юную редиску возит на Палашевский рынок. А было времечко — вернись, вернись желанное — таких вот «дедушек», таких вот «соломончиков» ничком укладывал он на пол. И ноги врозь, а руки-то враскидку. А сам по цитадельной камере, где пол цементный так неласков, похаживает и посвистывает: «Слаще всех со мной будешь ты гулять, не гляди, что я рябой…» (Он был и вправду рябоват, как и Кумир его.) Да, вот так-то он похаживает, посвистывает. Тем временем какого-нибудь соломона из Черкизова цепенит цементный пол. И жалкий сионист так жалостливо попросит: пустите, мол, пописать. А тот, который «слаще всех», тот говорит смиренно: «Жиды-то, помнится, Христа распяли, а мы тебя, жидок, жалеем. Хоть и распяли, да без гвоздей. Лежи, лежи, не вздумай шевельнуться». Тут «дедушка»-то, замокрев штанами, по доброй, значит, воле да и запишет сам себя в империализм се-ше-а…
Но в цитадели, где содержался Плонский Соломон, семидесяти от роду, придумать не умели, что делать с ним. Спасибо, Петербург распорядился.
РАКЕЕВ БЫЛ ТЯЖЕЛОЙ СТАТИ, но легок на подъем. Ему дарила служба охоту к перемене мест. Он мастеров ямской гоньбы звал по именам, как некогда Суворов своих богатырей. Он не боялся, что непроворный инвалид перелобанит лоб шлагбаумом. И говорил приятелям-жандармам: «Я, господа, Россию знаю назубок». И правда, отечественными звуками были для него не только ведь «острог» и «кнут», а и «трактир», и «тракт».
Переменяя местности, наш Спиридоныч, казалось, не имел охоты к промене должности. Да вдруг и размечтался. Вакансия открылась весьма вальяжная. Она не отменяла дальние вояжи, но только по делам важнейшим. И называлась: Старший Адъютант Штаба Корпуса Жандармов. Таковую перспективу Спиридоныч изобразил округлым звуком: «О!» И это «о» восторженною дырою не осталось. Шеф жандармов, испрашивая повеление царя, аттестовал Ракеева похвально. Мол, так и так, Ваше Величество, сей капитан и опытен, и благонамерен, и мне давно известен.
Спиридоныч, взглянув со стороны, увидел на себе новехонький мундир, построенный у Шторха. И приглядел в конюшне жандармского полуэскадрона жеребца Аслана, на коем, взглянув со стороны, увидел новехонький чепрак небесной свежей синевы… Все это было несколько академично. Практическим опережением событий было то, что Спиридоныч велел Анне Егоровне съестное забирать у Кондакова, на Шестилавочной; у Егорова же, в Церковном переулке, ничего не брать, отныне это не совсем прилично…
В прекрасном умонастроении, в приятном расположенье духа капитан Ракеев Федор Спиридоныч отправился исполнить оперативное задание. Ибо, господа, вакансия совсем не то, что и вакация, когда гуляешь праздно.
Эх, дороги, пыль да туман, бородачи, сермяги, бабы; соломы запах и парного молочка, цыганский бубен и бубенцы навстречу; потом местечки, где то и дело слышишь: «Что скажете, реб Борух?»
Приняв Пинхуса в эпистолярной форме, оформив оное как рапорт графу Бенкендорфу, капитан Ракеев, сделав немалый крюк, явился в цитадель за Соломоном, рожденным в Плонске и желавшим умереть в Ерусалиме. Задача была в том, чтоб этого не допустить и допросить в Санкт-Петербурге.
И вот уже Ракеев конвоировал старичка-хилячка; и вот он транспортировал, как позже выяснилось, эмиссара. И в этом слове звук похлеще, чем «острог» и «кнут». Он волновался и спешил, дабы вакансия, спаси, Господь, не ускользнула. Но, Боже, какие хляби, ветры и дожди противились его желаньям и даже, если уж вполне серьезно, высочайшей воле, которую Ракеев, и не только он, принимал как волю Провиденья.
Читать дальше