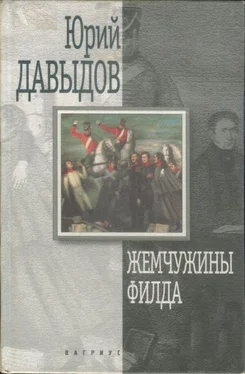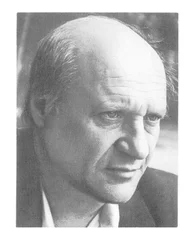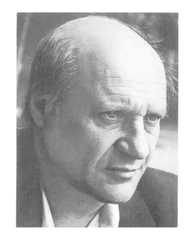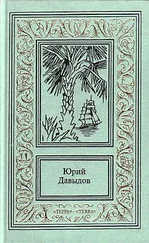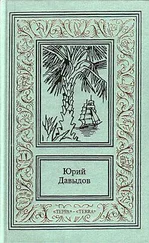Вообще-то, правду сказать, сновидения, как и видения спьяну, сочинители придумывают, рассказ же Ивана Григорьевича, давным-давно записанный, — вот он, передо мной. Но подлинная его фамилия не указана.
Сослуживцев могу назвать. И полицмейстеров тоже. А Ивана Григорьевича чаще всего называли Певчим. Певчий да Певчий. И квартальный надзиратель так, и унтеры, и медик полицейского лазарета, и пожарные, и фонарщики, и повивальные бабки; короче, весь штат съезжего дома у Адмиралтейской канавки.
Но почему, по какой причине — Певчий? — понял я именно в тот день, 14 июля 1826 года, когда Иван Григорьевич проснулся со вторыми петухами и, несмотря на ужас пробуждения, задрал ногу и пальпировал несчастную ступню. Эва, пришла в себя.
Он, однако, обул не ботфорты, а сапоги, в ходу испытанные.
Телега была крепкая, просторная, с высокими бортами. Владелец телеги, фурман-мясник, был кряжистый, крепкий, степенный. Ему велели нишкнуть в сторонке, за углом каменного строения. «А поп-то где?» — спросил мясник. «Ты мне не мяскай, кошка услышит», — погрозился Певчий не без некоторого смущения.
Два длинных ящика — пять трупов, забеленных, как порошей, негашеной известью-кипелкой — положили на фуру и позвали хозяина. Мясник взял вожжи, шевельнул, передумал и легонько похлопал лошадь по крупу. Лошадь, оглянувшись, мотнула головой. Фурман, словно извиняясь, развел руками, и она, милая, пошла, пошла.
Шла медленно, фурман не торопил. Певчий, недовольный медлительностью, хмурился. Когда кладь пристукивала, у него слабели колена, и он сам себе повторял, что этих, которые в ящиках, ни на понюх табаку не жаль — из-за них-то и остался как перст.
В прошлом декабре грянул понедельник, не приведи Господи. Одни кричали: «Ура, Николай!» Другие кричали: «Ура, Константин!» И каждый: «Это по закону». Дураки, закон в Сенате. А беззаконие — на Сенатской.
Народ повалил, глотку драли, квартальный приказ дал: «Унять!» Народ заорал: «A-а, кварташки! Бей их! Бей!» Враз остервенился. Это ж, может, раз в жизни, чтобы не полиция тебя, а ты — полицию…
Казалось бы, все наскрозь знал, где лаз, где перелаз, где тупик, где пес злющий, а подвал-то, куда с перепугу забился, впервые. Смрад, бочки, рогожа прелая, долго ль хоронился, не угадаешь, а душа, как стрельнула в пятки, так обратно и не выстреливала. Стало быть, в нетчиках, в дезертирах, срам эдакий. Ну, вылез, весь мундир перегадил, срам эдакий. В дворницкой хвать нагольный полушубок, потом, мол, отдам, потом, и, в рукава не попадая, долой со двора — к Сенатской, к съезжему, небось в полушубке не опознают, что ты из полиции.
Народ все валил, прибывал, волнами захлестывал, как в то наводнение, водоворотами. Вдруг, глядь, Варенька! Смеется: «Чего это вы, Иван Григорьевич, в полушубок нарядились?» Н-да, пассаж. Шуры-муры, любовь, со дня на день предложение. А тут… Смутишься. «А что это, — спрашивает, — происходит?» — «А это, — говорю, — государь смотр делает, войско по тревоге вывел». — «Ах, по трево-о-ге, ах, интересно, жаль не посмотрю, не протолкаешься». — «Это со мной-то не протолкаешься? Да я вас, сударыня, в самый что ни на есть партер проведу». — «Ах, как интересно, Иван Григорьевич». — «Я, Варвара Григорьевна, мигом, вот только по службе взгляну, как там у нас, и тотчас к вам». — «Ах, сделайте одолжение…» Хорошенькая такая, щечки пылают, глазоньки аметистовые… Прибежал к своим, дух не успел перевесть — «Бум! Бум!» И началось, началось. Мрак, крик, визг, стон, картечь бьет, кавалерия скачет, ужас… Мрак огустел, все это продолжалось… Потом по вся ночи костры горели, большую приборку на Сенатской устроили. Убитые, раненые, кому руку, кому ногу, кишки вон, на Сенате, где закон, кровь намерзла гроздьями. Которое трупье ближе к Неве, то в черные проруби, так и чавкают. А которое трупье у Адмиралтейской канавки, то в порожние баржи-дровяники, стук, бряк. Таскал, таскал, а сам думал, что Варенька домой убежала, какой уж там «партер»… Нет, не спас Господь, лежит истерзанная, затоптанная, лицом черная, нету глазонек аметистовых, нету…
Фура с мертвой кладью поворотила на Тучков мост.
На Малой Неве ни морщинки, вся матовая. Небо мглистое, но по раннему часу еще высокое.
По ту сторону моста ждали солдаты. Вышли из будки, на ящики с мертвецами не смотрят. Фурману сказали: здесь обжидай, корыто твое невдолге вернем. Ражий мясник снял шапку да и перекрестил ящики. Один и другой перекрестил. Иван Григорьевич строго засопел, однако возражений на крестное знамение не нашел.
Читать дальше