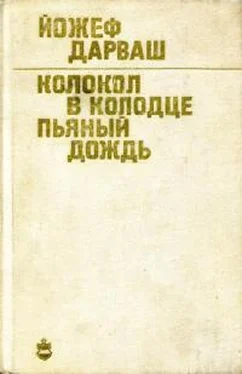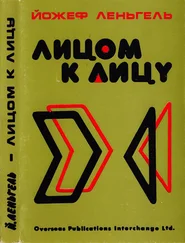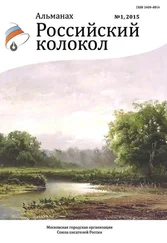— Смотри, а то будет поздно! Рабочие ко всем приглядываются, за каждым все примечают, все берут на заметку…
— Ну еще бы! — сыронизировал Андраш. — Примечают… а сами бастуют. Чтобы лучше все подметить…
— А кто виноват? — вскричал Мартин. От возбуждения он даже вскочил со стула. — Почему дурацкое радио только и делает, что канючит: «Дорогие братья повстанцы, сложите оружие, вам все простят»? Вместо того чтобы крикнуть: «Пролетарии! К оружию!»? Кто стоит там у проклятого микрофона? Это дерьмо, обыватели, разве не так?
— Радио не может сейчас призывать к оружию. Такого решения не принималось.
— А почему бы вам не принять такое решение? Для чего вы сидите здесь?
— Мы не могли…
Андраш отвечал на резкие, поставленные в лоб вопросы, словно терпеливый опытный учитель дотошному ученику. Я-то чувствовал, какое огромное нервное напряжение скрыто за спокойным тоном Андраша.
Мартин шумно выдохнул воздух и немного погодя спросил:
— Ты хоть бумажку-то мне достанешь? Насчет оружия.
— Нельзя. Я же сказал.
— Почему нельзя?
— И это уже объяснил: нет такого решения.
— Ах ты… — Мартин схватил стул. Но, сдержав гнев, продолжал дрожащим голосом: — Ты и раньше выполнял решения, даже тогда, когда лучше было бы не выполнять их! Так нельзя ли хоть сейчас сделать исключение?
— Что же нам теперь, совершить путч? — повысил голос Андраш.
— Дай оружие, черт тебя побери! — орал Мартин, — Или, может, уже и оружия у нас нет?
— Оружие есть. Но нет решения.
— Что нужно сделать, чтобы оно было? Я пойду и добьюсь его.
Андраш долго молчал, потом очень тихо проговорил:
— Моральной основы… нет… Вот чего нам не хватает… Мы развеяли ее в прах…
Для меня эти слова прозвучали как оправдание. Они снимали с меня вину за все… За запоздалое предостережение… За гибель военного… Но облегчения я так и не почувствовал. Мне казалось, будто шершавая холодная рука сжимает мне сердце; сжимает и хочет вырвать его, оборвать, как гроздь винограда с ветки… А из грозди сочится и капает виноградная кровь…
— Этот мятеж мы подавим… Я пока не знаю как, но подавим, — продолжал негромким голосом Андраш. Его речь стала отрывистой, точно каждое произнесенное слово причиняло ему боль. — Но вот как мы посмотрим после этого в глаза своим детям? Этого я не знаю. — Он немного помолчал. — А если не подавим, тогда и вовсе совестно будет смотреть в глаза нашим потомкам…
Мысль он свою закончил, но по интонации голоса этого нельзя было сказать. Будто подняли перегородку шлюза и забыли опустить.
В памяти моей ожила одна картина.
Весна в самом разгаре. Сквозь нежную, прозрачную, как кружева, листву струится солнечный свет. Мы спускаемся с вершины Черной горы. Впереди — Андраш, сильный, молодой; он идет уверенной, бодрой походкой. За ним — группа туристов, в хвосте — Марта и я. Взявшись за руки, мы поем. Пьянящий аромат трав осязается даже во рту. Мы поем, поет вся группа участников турпохода. Кругом шумит лес. Город, наш город, уже протянул нам руку; в кустах, возможно, притаились полицейские шпики, но мы поем:
По горам, по долинам несите,
На всей земле водрузите
Революции алый стяг…
Я заглянул в измученное лицо Андраша, в его усталые печальные глаза, которыми он почти с неприязнью разглядывал Мартина. Забытый аромат свежей травы пахнул мне в лицо на этот раз так ощутимо, что мне стало нестерпимо больно от этого. Так больно, что я не удержался и зарыдал, зарыдал громко, безудержно.
Солдат, чистивший винтовку, поднял голову и в ужасе посмотрел на меня. Потом с характерным щелканьем вставил на место затвор.
Геза все еще жил на Вышеградской улице.
Шари, когда ушла от него, — а может, когда Геза прогнал ее? — оставила ему квартиру. «Мне выдали отступные. Настоящий барин, конечно, отказался бы принять их. Он, скорее, предпочел бы остаться под открытым небом. Но ведь я мужик. К тому же выходец из крепостных крестьян», — нередко, даже, я бы сказал, слишком часто, говорил он, горько иронизируя над самим собой.
Я догнал его на углу улиц Вышеградской и Сигетской. Он шел в пальто, наброшенном на плечи, с непокрытой головой, ссутулившись, издали похожий на убегающего пингвина.
Когда я наконец поравнялся с ним, он не проронил ни единого звука.
Так и шли мы молча под моросящим дождем. На улице было слякотно, сыро, и в сумраке, опускавшемся вместе с нависшими тучами, стерлись границы времени. Может быть, еще только полдень? Или сколько-то пополудни. А может, день уже на исходе? В городе необычно тихо. По крайней мере в этой его части. Улица почти безлюдна. Но вот показался самосвал-мусоровоз. На радиаторе машины неуверенно трепыхался облезлый мокрый венгерский национальный флажок. Машина останавливалась перед каждым домом, и из шоферской кабины высовывался верзила в полосатой майке и, задрав голову в котелке неопределенного цвета, зычно оповещал:
Читать дальше