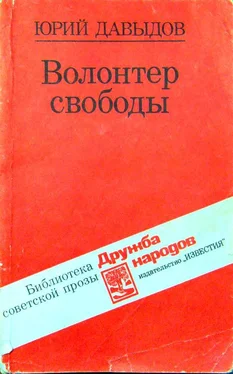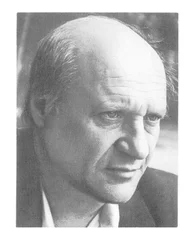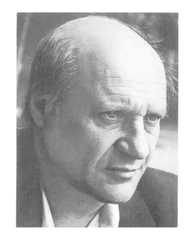Солнце заваливалось за тучи, запад багровел.
Акишев с Макшеевым поместились в парусиновой палаточке; палаточка подрагивала и прогибалась на ветру. Офицеры угрюмо молчали. Прапорщик присоветовал было штабс-капитану чаевничать не внакладку, а вприкуску, сберегая сахар. Совет свой высказал с заботливостью человека, испытавшего на веку всякое, но Макшеев вспыхнул, озлобился, наговорил много такого, за что теперь испытывал неловкость и стыд. Впрочем, неловко и стыдно ему было не оттого, что он накричал на помощника, который много его старше, а потому, что сорвался, обнаружив растерянность, если не отчаяние.
Видать, "академику" были впервой такие передряги. А топографу Оренбургского корпуса не раз уж приходилось околевать в степях и пустынях от жажды и, голода, стужи и буранов.
Десять лет Артемий Акимович, мужчина суровый, кряжистый, с грубоватыми ухватками, обретался в унтер-офицерах. За царем, по пословице, служба не пропадает, и Артемий Акимович выслужил "высочайше утвержденную из желтой тесьмы нашивку на левом рукаве", но, когда его недавно произвели наконец в прапорщики, он едва наскреб деньгу, чтобы сшить офицерский мундир, и продолжал свою прежнюю походную жизнь, жизнь бродяжью, несытную, нелегкую.
Вот ему-то Макшеев и прокричал, что куском сахару от голодной смерти не спасешься, что бутаковская лохань наверняка разбилась; коли и не разбилась, то, получив повреждения, отправилась в Раим, а милейший Бутаков и думать позабыл о несчастных, брошенных на этом проклятом Барса-Кельмесе.
Монолог остался без ответа, но Макшеев видел, что крупное, плохо выбритое лицо Акишева сделалось недобрым, почти грозным. В уме штабс-капитана мгновенно ожила давешняя картина, когда он так рельефно представил себе, что разыграется на острове, если шхуна погибла. Давешней ночью он слышал, как матросы переговаривались между собою и чей-то мрачный, но прямо разбойный голос каркал: "А у баринка-то, братцы, запасец изрядный". Это — о нем. Разумеется, о нем.
И на походе из Оренбурга к Сыр-Дарье и потом, на шхуне, штабс-капитан столовался отдельно от прочих. На Барса-Кельмес он тоже прихватил собственный харч и еще на шхуне сказал об этом Акишеву, чтобы тот не обижался. Прапорщик тогда ответил сухо: "Как вам угодно", а теперь вот поджал ноги по-татарски, глядит как филин.
— Послушайте, — заговорил Макшеев начальственным тоном. — К ночи выставим посты. А? Что? — заторопился он, хотя Акишев по-прежнему молчал. — Слышите, прапорщик? Как это "зачем"? А если придет шхуна? То есть как же это не придет?
Акишев медленно усмехнулся в густые, с подпалинами от курева усы. Макшеев вскинулся:
— Извольте…
— Не извольте кричать, — оборвал Акишев. Голос у него был сипловатый, негромкий, Макшееву в ту минуту ненавистный. — Не будет нынче шхуны. Посты выставлять — только людей мытарить.
Макшеев смешался. С минуту он таращился на Акишева, а потом выскочил из палатки, бормоча ругательства.
Скорым запинающимся шагом, пугая ежей и тушканчиков, он почти бежал, не разбирая пути.
Темнело. Косматый чернильный Арал вздымался, ворочался, ухал.
Быстрая ходьба не успокоила штабс-капитана, мысли его совсем сбились. Он то прицеливался, можно ли в челноке добраться до Сыр-Дарьи, то с каким-то остервенением убеждал себя, что в челноке и двух верст по морю не сделаешь…
7
Нет, не ошибся приказчик Захряпин, так и брякнули: "Порешить его, и вся недолга". От этих страшных слов в висках у Захряпина, как молотком, бухнуло. Он, однако, не закричал, даже не шевельнулся, сидел, обнимая колени, сжавшись.
— Порешить недолго. А только как?
— А чего "как"? Камень на шею, да и в воду.
Рыбачий баркас переждал шторм благополучно, еще немного — и приказчик Захряпин повстречал бы шхуну "Михаил", но беда-то была в том, что бесшабашные артельщики давно выглушили водку, сжевали крупитчатые калачи да и остались на одних сухаришках, таких твердых, что и волку не по зубам. Уж как ни упрашивал Захряпин, поберегитесь, мол, ребятушки, глядите-ка, и ветер противный, и заштормит беспременно, и со шхуной "Михаил" можно разминуться, — как ни уламывал, куда там.
Приказчик Захряпин, молодой, крутолобый и скуластый, с закурчавившейся бородкой и бойкими карими глазками, воротился недавно из длительной поездки. Побывал он в Ростове, в Алеександрове — докладывал о делах хозяевам рыболовецкой компании, года два как заведенной на Аральском море. Наведался Захряпин в Москву, где сподобился аудиенции у самого Платона Васильевича Голубкова, и от беседы с ним "воспарил духом". Прилетев в устье Сыр-Дарьи, на остров Кос-Арал, к рыбачьей артели, Захряпин узнал, что Бутаков уже в море, а отставной капитан-лейтенант Мертваго, шкипер суденышка "Михаил", отправился на промысел. Никто Захряпина не торопил, жена его, вывезенная из Москвы, робела одиночества, но приказчику не терпелось свидеться с Мертваго и Бутаковым. Захряпин хотел поскорее выложить Мертваго голубковские проекты, хотя приказчик и догадывался, что Федор Степанович от них восторгом не зайдется. А к Бутакову Захряпин спешил потому, что думал напроситься в экспедицию, ибо давно уж намеревался обозреть и запад и юг аральский. Так все сошлось и связалось. Снарядил Николай Васильевич баркас, облобызал супругу и айда в море.
Читать дальше