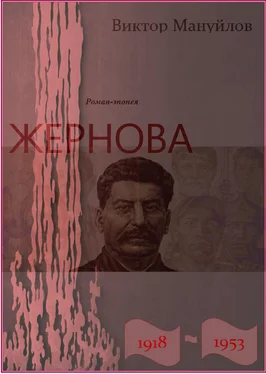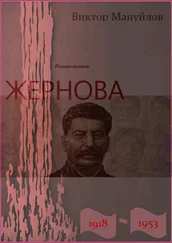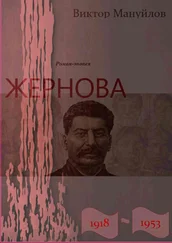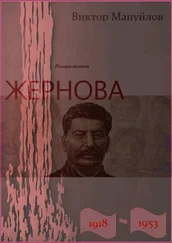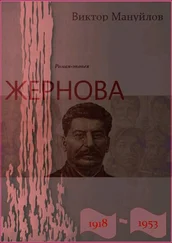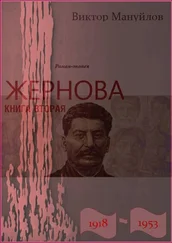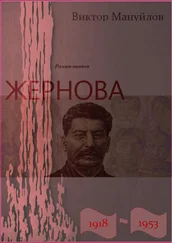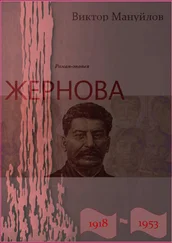33.
Мои выдуманные и действительно жившие в ту пору герои заставляли невольно думать над их дальнейшей судьбой. Хотелось, чтобы они, пройдя всякие мытарства, зажили более-менее нормальной человеческой жизнью. И я засел за продолжение «Наконечника», но с другим – условным – названием: «48-й год».
Писалось легко. С одной стороны это радовало, с другой – пугало хлестаковщиной. И в какой-то момент до меня дошло, что и сама война, и послевоенные годы всего лишь следствие всей предыдущей истории страны под названием Союз Советских Социалистических Республик.
Не зная этой истории трудно объяснить «штурмовые», а по существу – штрафные батальоны. Еще труднее понять, откуда их набралось несколько десятков? А дальше… дальше следовала целая цепочка связанных между собой вопросов:
И что такое «неожиданное нападение Германии на нашу страну»?
Почему в плену оказались миллионы наших солдат и офицеров?
Почему немцы дошли до Москвы, Сталинграда, захватили почти весь Северный Кавказ, окружили Ленинград?
Всю ли правду мы знаем о войне, о революции, о «строительстве социализма», самого справедливого общества на земле?
И что такое Сталин? А наши генералы и маршалы? Какой ценой они добивались побед?
И кто мои родители? Кто я и мои сверстники в этой стране?
Наконец, почему, то еле тлея, то разгораясь, не затухает так называемый еврейский вопрос, а всякая попытка встречает ожесточенное сопротивление не только самих евреев, но и любой – даже демократической – власти? Это о мертвых – хорошо или ничего. А история евреев подобного отношения к себе не заслуживает.
Голова пухнет, когда начинаешь думать о прошлом, далеком и близком, зная историю своей страны с пятое на десятое. Как и подавляющее большинство ее жителей. Зато все знали, что история России, а затем и СССР, были намертво привязаны к «Истории КПСС». И мне казалось, что этой толстой книжки в серой обложке будет достаточно для ориентации в минувшем.
И лишь в последние десятилетия XX-го века выяснилось, что народы и партия, органически не сливаясь в единое целое, шли рядом: одни добровольно, другие по принуждению. И доказательство тому – девяностые годы: почти двадцать миллионов коммунистов не встали стеной за будто бы свои идеалы, которые в действительности были лишь красивым миражом, а тысячи и тысячи вчерашних партийных чиновников заметались между несколькими волчьими стаями, набросившимися на нашу экономику, не зная, с какой из этих стай связать свою судьбу. И не прогадать.
Да, девяностые годы, прозванные лихими, радости не вызывали. Но было у этих годов то, без чего я бы не решился на историческую эпопею: начали раскрываться архивы, и туда бросились как матерые, так и молодые историки, спеша раскопать такое, чтобы все ахнули.
Я не сразу научился отделять зерна от плевел, не сразу разобрался в разноголосице мнений, выдаваемых за последнюю истину. Я потратил бы слишком много времени, выпутываясь из этой свалки, и вполне возможно, не выпутался бы никогда. Но на мое счастье журнал «Наш современник» начал печатать книгу Вадима Кожинова «Россия. Век двадцатый», в которой анализировалась история России, начиная с 1901 года.
Что особенно привлекло меня в его книге, так это не предвзятые оценки исторических личностей, какую бы позицию они ни занимали по отношению к своим политическим противникам в борьбе за власть. Одного я не понимал в трактовке Кожинова, что все они – в том числе и Сталин – не сами творили историю, а шли у нее на поводу.
И поначалу вроде бы так оно и было: двадцатитысячная партия большевиков не могла повернуть историю России на другую дорогу, если бы сама история не заставила их это сделать. Следовательно, любой человек, оказавшийся на месте Ленина, затем Сталина, делал бы то же самое, хотя и с отклонениями в ту или другую сторону.
Я читал номер за номером, беря журналы в библиотеке, еще не представляя, каким образом взгляд Кожанова на историю России поможет мне выбрать свою дорогу. Все-таки для меня главным была не история, а люди, жившие и творившие историю в эпоху, которую я со временем условно назвал «эпохой Сталина». Мне представлялось, что хватит трех-четырех книг для того, чтобы «вскрыть» эту эпоху. А если понадобятся еще, то дать им самостоятельное звучание. Что-то вроде «Преображения России» Сергеева-Ценского.
34.
Я начал с 1918 года. Признаюсь: до сих пор даже не пытался внятно объяснить самому себе, почему выбрал для начала романа этот год, а не, скажем, 17-й или еще какой-то другой. Скорее всего, 17-й год потребовал бы отдельной книги, в которой переплетались судьбы приверженцев «старой» России и неожиданно возникшей «новой», о чем уже писали многие, ставшие именитыми на этой теме. К тому же 17-й год не вел меня напрямую к «штурмовым батальонам».
Читать дальше