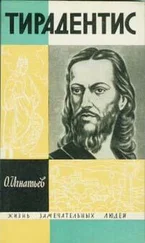— Чем? — полюбопытствовал первый драгоман Эммануил Яковлевич Аргиропуло, слывший в некотором роде либералом. Либералом «монархического толка».
Константин Николаевич подлил себе в бокал вина и, сделав небольшой глоток, пылко ответил.
— Своим славословием!
— Кому или чему?
— Той отвратительной свободе, которая обеспечивает незыблемое право малой горстке изуверов безраздельно помыкать большей частью общества, ставя её на грань выживания и расправляясь со своими оппонентами самым жестоким, кровожадным, революционным способом. А способ этот нам известен — гильотина. Чик! — и всё: кровь фонтанирует, и ваша голова падает в ящик. Я вообще считаю, что либерализм это зло. Зло разрушительное. Чёрное.
— Поясните, — обратился к нему старший Аргиропуло с мрачным лицом похоронного церемониймейстера, чьё появление обычно не сулит ничего доброго. — Лично я считаю, что, чем чаще государство видит в своих гражданах врагов, тем больше вероятности его возможного распада.
— Нет ничего проще, — Леонтьев промокнул усы салфеткой. — Либерализм безнационален, космополитичен по своей сути; иначе бы его не насаждали, как картошку. Повторяю, — он резко вздёрнул подбородок, словно боялся прослыть резонёром, скучным до зевоты, или его внутренне коробила необходимость оспаривать чужие взгляды. — Всё либеральное бесцветно, общеразрушительно, бессодержательно.
— Да в чём же оно, сударь, столь бесцветно и бессодержательно, как вы об этом только что сказали? — в голосе Эммануила Яковлевича послышалось искреннее, отнюдь не наигранное, как это случается в спорах, явное недоумение, в чём-то сходное с испугом, который может отразиться на лице любого человека, стоит ему оказаться в неизвестном месте, в полной темноте, да ещё и не по своей воле, когда он ничего не видит, хочет пошевелиться, но не может, и с замиранием сердца, с почти остановившимся, пресекшимся от страшного волнения, дыханием, едва не теряя сознание, слышит тихие, крадущиеся, приближающиеся к нему шаги. Возможно, самой смерти.
Леонтьев чуточку нахмурился. Затем сказал — с гримасой недовольства, как офицер, собравшийся командовать гусарским эскадроном, а вместо этого оставленный при штабе.
— Оно бессодержательно и общеразрушительно в том смысле, что одинаково возможно всюду. Повсеместно.
— Разве это плохо? — вытянув руку, точно и впрямь нащупывал дорогу в темноте или пытался схватиться за его плечо, увязал в полемике старший Аргиропуло. — Общие гражданские права.
— И общие гражданские свободы? — не скрывая глубокой иронии, откликнулся на его довод Константин Николаевич, и в его взоре промелькнула скука.
— Разумеется! — воскликнул первый драгоман с радостно горящим взором. — Это приведёт к тому, что люди станут лучше.
— Они просто будут счастливы! — расхохотался Хитрово, поддерживая в споре своего приятеля.
— Конечно! — не уловив издёвки, согласился с ним Эммануил Яковлевич. Задумайся он над словами Леонтьева или хотя бы над той интонацией, с которой тот обращался к нему, он ни за что не стал бы в позу оппонента, причём, прямо с места в карьер! горячечно и безоглядно; хотя, быть может, отвечал бы менее восторженно. Прохладней. Как и подобает похоронному распорядителю.
— Вы говорите «конечно», и тут же забываете, что у каждого народа свой язык, своя культура. Нет культуры «всеобщей», но есть национальная, присущая лишь этому народу. А это значит, — с жаром произнёс Константин Николаевич, ища поддержки у своего писательского красноречия, к которому уже привык его приятель Хитрово, но ещё не привык старший Аргиропуло, — что у каждой культуры и правда своя, как свой алфавит и буквенный шрифт; в нашем с вами случае — «кириллица», и нормы русского правописания.
Вы говорите: «Люди станут лучше». Смешно слушать! Лучше ли стали люди, счастливее ли они в либеральных государствах? Нет! Они не стали ни лучше, ни умнее, ни счастливей. — Глаза Леонтьева сверкнули. — Они стали мельче, ничтожнее, бездарнее.
— Пожалуй, Константин Николаевич прав, — внимательно следя за разгоревшейся полемикой, вмешался в разговор Игнатьев. — Нет более смешного идеала, чем «общечеловеческое счастье». Ведь в человеке хаоса не меньше, чем во всей вселенной.
Воодушевлённый его репликой, Леонтьев снова вскинул голову.
— Вот почему из моих уст вы всё чаще слышите проповедь страха Божия и жёсткой иерархии в социальной жизни.
— Выходит, вы жестокий крепостник? — прибегая к последнему средству и, как бы намекая, на оппозиционность Леонтьева по отношению к монаршему Манифесту, даровавшему свободу крепостным крестьянам, недобро сузил глаза Аргиропуло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу