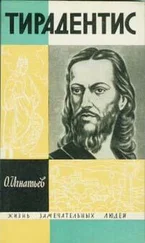Будь его обвинения звонкой монетой, князь Милан и его премьер-министр до гроба не знали б нужды.
Князь Карл, узнав о намерении своего соседа возобновить войну с османами, почувствовал ужасную неловкость. Гордому немцу никак не хотелось оставаться безучастным зрителем при переправе русских войск через Дунай, и он решил, что после провозглашения независимости Румыния вполне может участвовать в войне.
— Я переправлюсь на тот берег западнее Видина! — заверил он Игнатьева. — Мои солдаты хотят драться.
Князь Горчаков, боявшийся обидеть Вену, высказался грубо, но понятно, — против того и другого.
— Пусть оба катятся ко всем чертям!
Осознавая превосходство своего государственного положения, он позволял себе развязность и нередко бравировал ею.
— Мне так и передать? — спросил Николай Павлович, примерно зная, что ему скажет светлейший.
— Ну, что вы, право, как ребёнок! — рассерженно воскликнул канцлер. — Скажите этим доброхотам, что нам их помощь не нужна — ни в коей мере. Белградская милиция нам только помешает, точно также и румыны ограничат наше наступление.
Он не желал никаких осложнений.
Ожидая, что турки скоро будут просить мира (одна из иллюзий Александра II, внушённая ему светлейшим князем Горчаковым), граф Адлерберг предполагал, что Игнатьева отправят в авангард для переговоров, не прерывая военных действий — пока наши условия не будут приняты.
Князь Церетелев, состоявший при штабе Дмитрия Ивановича Скобелева, уверенно сказал, что вода в Дунае высока и до второго июня ничего нового не будет.
— Тогда начнётся переправа, — сообщил он таким тоном, точно её успех зависел лично от него или, по крайности, от его нового начальства.
По вечерам у Игнатьева бывали его посольские сотрудники. Говорили о многом, но больше всего о политике.
Нелидов слепо держался за соглашение с Австро-Венгрией с того самого момента, как в Герцеговине вспыхнуло восстание, но, чтобы ублажить румын, чьи аппетиты разгорались не по дням, а по часам, предлагал уступить им острова в дельте Дуная, а также болгарские крепости.
— Не хочется, чтобы меня считали сущим простаком, но без уступок с нашей стороны, я думаю, не обойтись, — произнёс он с кислым выражением лица и ненароком сильно сгорбился. — Вместе с островами, я бы ещё отдал пяток прибрежных поселений, где обитает множество румын.
— Уступать румынам ничего нельзя! Ни в коем случае! — решительно сказал Николай Павлович. — Им палец дай, они руку по локоть отхватят! К тому же, Карл Румынский — немец, а немцев незачем пускать в наш огород.
— В наш огород? — переспросил Александр Иванович, слегка пожимая плечами. — Я что-то вас не очень понимаю.
— А тут и понимать особо нечего, — ответил на его вопрос Игнатьев. — «Наш огород» это земли славян, которых мы должны объединить, освободив, конечно, для начала.
Относительно переговоров с турками в главной квартире бытовало странное предположение, что в случае падения Плевны и продвижения наших войск по направлению к Софии, Абдул-Хамид II начнёт молить о мире. Николай Павлович не переставал повторять императору, что, пока мы не дойдём до Андрианополя — второй столицы Турции и не возьмём этот город, интриги англичан не позволит султану сделать этого.
— А до того времени турок надо бить и бить нещадно. Мусульмане уважают силу, преклоняются пред ней, боготворят.
Игнатьев знал, что говорил. Согласно агентурным сведениям, которые по-прежнему стекались к нему отовсюду, в Стамбуле появились турки-беженцы, проживавшие в долине реки Тунджа. Все они в один голос утверждали, что султанские войска, охранявшие Царьград, и армия Сулеймана-паши, снятая с черногорского военного театра, сосредоточились близ Пловдива и Андрианополя. Николай Павлович понял, что там и только там султан решил задать Александру II основательную трёпку.
Николай Павлович знал, что говорил, и не склонялся перед скепсисом канцлера, получившего воспитание в Царскосельском лицее, где, как известно, набирались ума-разума «луфтоны» — дети масонов высоких степеней посвящения. Всю жизнь князь Горчаков вращался в тех кругах, где и министрами становятся от скуки, буквально от нечего делать, чтоб непрестанно унижать чьё-то достоинство, гордиться праздностью и не стеснять себя ни в чём. Ни в грубых колкостях, ни в смене удовольствий. Может поэтому, дипломатия канцлера напоминала ему «букет искусственных цветов, слегка обрызганных духами», если вспомнить поэтические строки Константина Леонтьева. А что касается оригинальности мышления князя Горчакова, на сей предмет можно поспорить. Да, его чтут как мастера острот, но ведь ничто не забывается так быстро, как остроты. За фейерверком ярких фраз, будь это фразы Горчакова или другого записного краснобая, Игнатьев никогда не находил того, что поразило бы его, как дипломата: элементарного предвиденья событий. Маломальской прозорливости. Анализируя депеши канцлера, его инструкции и рассуждения, Николай Павлович уверился в одном: стремление к оригинальности, на деле, приводит не к парадоксальности — к абсурдности мышления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу