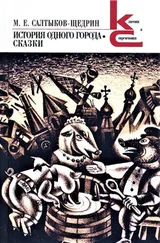Он доживал оставшиеся ему годы в своем имении Воронки, Черниговской губернии, ездил заграницу, подолгу живал в имении Фалль, принадлежавшем когда-то Бенкендорфу и по странной иронии судьбы перешедшем к семье государственного преступника. Сын его был женат на внучке начальника III Отделения. Волконский, как все старики декабристы, любил вспоминать прошлое. По вечерам, в Фалле, окруженный родными, начинал он бесконечные рассказы. «C’était dans l’année… — он останавливался на мгновенье, припоминая и потом кончал! — un!» Поднятый неожиданно в такт слову «un» указательный палец, наглядно иллюстрировал эту цифру. Присутствующие не сразу понимали, что l’année un означает 1801 год и не могли удержаться от веселого смеха.
Якушкину недолго уже пришлось радоваться жизни с своими двумя чудесными сыновьями, которым он когда-то с таким жертвенным самоотречением сохранил мать, взяв с неё слово не ехать к нему в Сибирь. Он умер через год после возвращения в Россию, в 1857 г. Пущин женился на овдовевшей Наталье Дмитриевне Фон-Визиной. Бедная «Таня» (она почему то была уверена, что Пушкин с неё писал свою Татьяну) могла наконец свободно отдаться своему пылкому чувству. Поздний и нерадостный брак!
Кое-кто из них пытался войти в новую жизнь, в общественную работу. Оболенский деятельно переписывался с бывшим другом молодости, Ростовцевым. Добродушный генерал был тогда накануне великого подвига своей жизни. Его еще многие, в том числе Герцен в «Колоколе», называли предателем декабристов. Его роль в освобождении крестьян иные объясняли тем, что он дал слово своему умирающему сыну искупить эту измену. Это легенда, но он действительно, искупил свой грех. Пользуясь доверием к себе Александра II, он энергично и радикально через все препятствия провел это трудное дело. Другой государственный деятель, бывший некогда основателем Союза Спасенья и помилованный потом — Александр Николаевич Муравьев, в должности нижегородского губернатора — тоже играл важную роль в деле освобождения. Кажется, не случайно три человека, связанные в свое время с декабристами — Киселев, Муравьев, Ростовцев — вписали свое имя в историю уничтожения крепостного права. Поле их деятельности было, разумеется, неизмеримо шире того, где могли работать затерянные в новых условиях, не знавшие жизни прощенные ссыльные — Оболенский или Свистунов, которым привелось принять только скромное, посильное участие в великом деле, в качестве мировых посредников. Из других вернувшихся Анненков тоже участвовал в общественной жизни: он был избран нижегородским предводителем дворянства. Он стал к этому времени тяжелым маньяком и был по прежнему рассеян. Старушка жена всё так же ухаживала за ним. «Annenkoff, tu oublies ton mouchoir!» неизменно кричала она ему вслед, когда он уходил из дому, и редко ошибалась.
Всех их уже подстерегали дряхлость и хвори. Поджио, женившийся в Сибири на классной даме Иркутской гимназии, с женой и дочерью уехал заграницу, на бывшую родину его семьи, в Италию, где Жизнь была дешевле и климат мягче. В Париже по прежнему проживал Тургенев. Брат его сумел в свое время передать ему деньги вырученные за продажу их общего имения, и он прожил свой век спокойно, богатым барином. После опубликования своей книги «Россия и Русские», направленной отчасти и против бывших его товарищей (он не прощал им их оговоры себя, считал «ребятишками», ни на что путное не годными), он уже больше ничего не писал. Нелюбовь тут были взаимная. Все грехи прощали декабристы — оговоры, предательство — одного греха не прощали: эмиграции, представлявшейся им предательством родины. Однако в благостный день 19 февраля 1861 года, столкнувшись с Тургеневым в русской церкви, перед крестом, растроганный и умиленный Волконский уступил ему дорогу, со словами: «Тебе, Николай, тебе первому подходить». В день освобождения крестьян это было только справедливо; это был его, Тургенева, великий праздник. Но тот отступил на шаг и холодно спросил, окидывая Волконского презрительным взглядом: «Кто вы такой?»
Странным, не у всех одинаковым, было отношение их к своему прошлому. Волконский, узнав о смерти царя, плакал навзрыд, как ребенок. О своей ли разбитой царем жизни плакал он? Не примешивалось ли к горю чувство вины за нарушение своего воинского долга? Кто скажет? Отношение большинства к 14-ому декабря было двойственным: осуждение его и всё-таки тайная гордость им. Эта двойственность особенно ясно выражалась у Оболенского, благодаря одному его свойству: он любил защищать свое мнение так, чтобы собеседник его убеждался в совершенно обратном. Он яростно защищал самодержавие яркими примерами его негодности, и осуждал Тайное Общество, подчеркивая благородство его целей и побуждений. Но всё же он старался выставить себя страстным поклонником самодержавия. Басаргин тоже осуждал декабрьский бунт, но признавался, что никогда не был так счастлив, как в дни Тайного Общества. Пущин и Якушкин не отказывались от своего революционного прошлого.
Читать дальше








![Венсан Робер - Время банкетов [Политика и символика одного поколения (1818–1848)]](/books/399188/vensan-rober-vremya-banketov-politika-i-simvolika-thumb.webp)